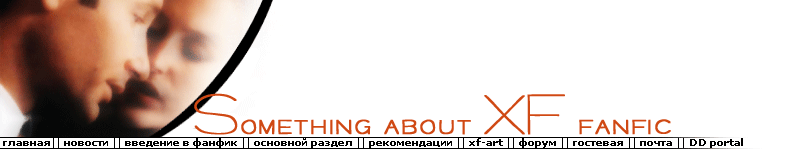
БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ
Прозрачные, ажурные, хрупкие снежинки кружатся в белом, неслышном танце и в конце концов - без сил и надежды снова взлететь высоко - всё-таки тихо опускаются на гладкую, черную, мраморную поверхность. Им никуда не уйти от своего падения, но теперь я понимаю, что уникальная судьба каждой из них так правильна и так незавершенно красива, потому просто смотрю на них, не предпринимая попыток бороться, спасти или что-то изменить. Хотя в этой бесконечной, падающей на чёрную, холодную твердь белой нежности и есть нечто сюрреалистическое и трагичное одновременно. Возможно, не менее трагичное, чем во всей отстраненной атмосфере этого места, где всегда живут лишь тишина, воспоминания и размышления. Здравствуй, Скалли. Знаешь, сегодня красивый день, правда? Туман и снег, всё, как тебе нравится, любимая. Помнишь, такой же день был и тогда, когда мы, как сумасшедшие, играли в снежки, смеялись и не могли остановиться, даже тогда, когда упали и оказались в огромном сугробе, которым стал только что скатанный нами снеговик? Тогда тоже был такой же, как сейчас, густой туман и тишина. На расстоянии десяти футов от тебя мог спокойно пройти слон, и ты бы его не заметила. Но даже если бы целое стадо слонов находилось поздней осенью в Вашингтоне и прошло в тот момент рядом, и день был бы самым ясным и солнечным, мы ничего не заметили бы, потому что весь мир состоял тогда только из нас двоих. Самых счастливых двоих. Помнишь, Скалли, каким был мир того дня? Тихим, размытым и прозрачным до удивленного отражения, как новорожденная акварель, и в равных долях состоял из нашего холодного огня и теплоты наших же сердец. В этом дне жило влажное, глубокое эхо нашего счастливого смеха в снегу, и теперь я понимаю, что еще там были едва заметные, серые тени предчувствия прощания, скользившие где-то в молочном тумане. Но тогда они были так далеки, невесомы, чужды и молчаливы, что мы не пытались их запомнить, понять и рассмотреть. Помнишь, как вечером, придя домой, мы грели друг другу замерзшие руки собственным теплым дыханием? Сначала я тебе, потом - ты мне, Скалли. В тот раз ты сама захотела выбрать для нас музыку вечера из моей коллекции компакт-дисков. Сначала за окном опустились серые, пушистые сумерки, они были молоды и неопытны, а потому - несмелы и медлительны. Потом пришел в артистичной, черной, бархатной куртке вечер, он был уже мудрым и зрелым, поэтому позволил себе не спешить. А у нас мягко и нежно пел Элвис. Звуки его лиричных, глубоких баллад жили в тот вечер только для нас с тобой. Это был день, когда неожиданно выпал первый ранний снег, и это была наша последняя прогулка вдвоем и наш последний вечер перед тем походом в клинику на следующий день. Я помню, как мне вдруг не хватило кислорода для вдоха и свет в глазах потемнел после слов врача о возвращении твоей болезни и о том, что она будет горящей и стремительной. Он говорил мне о том, что госпитализация должна быть немедленной и что у нас есть максимум две-три недели. На вопрос о надежде он после паузы ответил мне, что надеяться можно всегда, но иногда - только на чудо. В больничной палате, среди белых простыней и подушек, Скалли, ты была такой маленькой и беззащитной, что казалось - вот-вот растворишься, растаешь в их ледяном совершенстве. Если бы не твои глаза, глубокая голубизна которых только и жила своей удивительной, внутренней жизнью, и если бы не темные круги под ними, которые становились все более угрожающими с каждым часом и с каждым днем на этом пути в безысходность… Наверно, тогда я держался, а мои слезы высохли и не проливались только потому, что мы приходили к тебе вместе с Уильямом. Так было до последнего проблеска сознания. Помнишь, любимая, как на День благодарения наш малыш смущенно протянул тебе рисунок, где были изображены мы трое на фоне именно такого домика, о котором мы с тобой всегда мечтали? Знаешь, до этого он целый час старательно и необыкновенно тихо выводил на бумаге первые несмелые линии и встал из-за стола, только когда закончил работу. Сидя у двери палаты, я видел, как у тебя вспыхнула хрустальная слезинка, сверкнула и тут же погасла, когда ты читала неуверенные, сантиметровые буквы "Мама, папа! Я вас очень люблю!". Но эта горькая жемчужина была первой и последней, тут же исчезнув в твоей светлой улыбке. Ты всегда была такой сильной, Скалли, сильной за нас двоих, и ты смогла сдержаться в эту последнюю встречу с сыном. Теперь я понимаю - для того, чтобы он потом всегда вспоминал тебя именно такой. Я помню последние дни, но тогда я не верил, что они такие. Твоя мама приехала сразу же и теперь проводила много времени с Уилли, он фактически жил у нее в те дни. Она давным-давно попросила меня называть ее просто Мэгги, но у меня все язык не поворачивался. А тогда это вдруг стало для меня естественной потребностью, и я, наконец, назвал ее так. Мне жаль, Скалли, но именно ей довелось первой увидеть мои слезы. И пережить их вместе со своей болью и скорбью матери. Все время я проводил в палате возле тебя или рядом с дверью - в те минуты, когда приходила сестра, чтобы проверить приборы или сменить капельницу. Через два дня медики поняли, что я не уйду, и смирились, позволив мне остаться, при этом строжайше запретив прикасаться к чему-либо. Я не хотел верить, что это конец, Скалли. Просто не мог, потому что думал, что так не бывает, потому что это невозможно. И я разговаривал с тобой, Скалли, помнишь? Как только мог, я старался удержать тебя. Я все время говорил, как я люблю тебя и как ты нужна мне. Рассказывал тебе о нашем будущем, о нашей жизни, какой она будет, когда ты поправишься и выйдешь отсюда. Иногда вспоминал прошлое, наши самые хорошие, светлые дни, а их было так много и они всегда такими были, в каком бы мрачном, безумном и жестоком мире они не проходили. Они были такими, потому что ты была рядом со мной. Я рассказывал тебе про успехи Уильяма в садике, иногда советовался с тобой по поводу идей для будущих статей в журнале. Я знал, что ты тогда всё слышала и поддерживала меня, любимая. И не верил в снисходительный цинизм, говорящий о постепенном отмирании и угасании. Знаешь, я смутно помню те дни, но однажды передо мной вдруг ярко всплыл школьный урок истории и слова учителя об "Отчаянии" Бенисио. Тогда мне было только одиннадцать, сама понимаешь, каким может быть осознание сущности отчаяния в этом возрасте. Я никогда после этого не возвращался к этому эпизоду, но мой детский мозг, вероятно, его запомнил и сохранил, хотя до конца, конечно, так и не понял тогда. Там, у двери твоей палаты, из ночной глубины и тревожной, ломкой тишины реанимационного отделения передо мной вдруг предельно четко возникла из далекого прошлого та фраза моего учителя про уникальность этой работы. Что она стоит особняком и что автора чуть не бросили на костер, признав еретиком, но помогло покровительство влиятельных друзей, и художника только предали вечной анафеме. Учитель истории говорил нам тогда о смысле человеческой печали в прозрачных глазах мадонны и ее непосильном грузе знания будущего. Он говорил об искуплении для всех и о трагедии отдельно взятого человека. Помню, его слова были об отчаянии как о смирении, безнадежности и горьком осознании невозможности что-либо изменить в принципе. Потому что всегда есть нечто, что сильнее и выше нас. Таким было и мое личное осознание. И таким стал мой мир той ночью - закованным в глубокое отчаяние, полным смирения и невозможности что-либо изменить или помочь, как бы я ни старался, что бы ни делал, даже если бы мне удалось перевернуть вселенную. Просто потому, что это в принципе было невозможно. Трижды я встречался в больничном коридоре с отцом МакКью. Помню, он говорил мне об утешении и надежде, а я отвечал ему, что знаю о вполне осознанной, преступной виновности в твоей болезни только людей и что им не уйти от расплаты и человеческого правосудия, даже если оно будет только моим. Он говорил о прощении и о том, что можно не любить зло, которое человек делает по неведению, но самого человека как созданное творение при этом не любить нельзя. Помню, что я тогда и слушал, и не слушал его. Теперь мне немного жаль, любимая, потому что он, вероятно, понял это, но в то время мне, если честно, было все равно. Во мне - где-то глубоко в сердце - родилась ледяная искра, она тянула за душу, щемила и тлела, не давая успокоиться. Но чуда не произошло. Время после похорон я помню смутно. Некоторые моменты - с кристальной четкостью и ясностью, некоторые дни не помню совсем. Я смотрел на черно-белый мир за стеклом, и он был одинаковым и ночью, и днем. Со снегом или с холодным дождем, он был одинаково бессмысленным. Даже когда по улице, по серому асфальту шел поток разноцветных зонтов, мир все равно был черно-белым, проходя мимо и не задевая меня. Вечером я приходил домой, садился на подоконник и смотрел на закат, а потом, не включая свет, мог часами смотреть на аквариум - блеск рыбьей чешуи и хаотичное движение пузырьков иногда обретало смысл, а иногда просто заменяло мне мысли. Знаешь, Скалли, ты не поверишь, но я обнаружил тогда, что белый снег может быть абсолютно черным и падать вверх. Таким он видится, если долго смотреть на него в безветренную погоду в сумерках из неосвещенного окна. Мое удивление от этого открытия было, наверное, моим первым осмысленным чувством, появившемся в этом тихом, одинаково сером, замедленном мире. Мне всё напоминало о тебе, Скалли. И каждый вечер голос Элвиса и слова "Love me tender" и "Only you" многократно отражались эхом от черно-белого, безмолвного мира за оконным стеклом, стекая вниз вместе с моими горячими слезами, которых я почти никогда не чувствовал. Я помню серое декабрьское утро и звонок Доггетта, но точно не помню, когда это произошло. И я с головой окунулся в то расследование жестоких серийных убийств девяти мальчиков в Лос-Анджелосе, сутками напролет анализируя и сопоставляя, балансируя на тонкой грани интуиции, безумия и озарения. Теперь я понимаю, что же не давало мне тогда успокоиться, притягивало и не отпускало от себя. Те мои многочасовые погружения и изматывающая гонка по мрачным, извилистым лабиринтам искаженного воображения маньяка с режущими глаз символами - больными, мертвыми цветами - на телах каждой из жертв, вероятно, казались мне тогда ярче моего собственного черно-белого, остановившегося мира. В тот момент это превратилось в жесткое противостояние мировоззрений и страшное соревнование на скорость двух одиночек, ценой которого была жизнь следующего невинного ребёнка. Для меня это дело стало страстным, мучительным, одержимым и бессонным одновременно, а через четыре дня ориентировка была, наконец, готова и убийца задержан. Это был кризис - и, наверно, первый шаг на долгом пути к далекому исцелению. Я помню, как в первый раз за долгое время вышел на улицу, а перед глазами все еще плыли россыпи цветных фотографий жертв с мест преступлений. Только такой, какой и может быть в декабре, яркий солнечный свет неожиданно и болезненно полоснул по глазам бесконечной синевой высокого, прозрачного неба, и ветер бросил мне в лицо горсть острого, колючего снега. Тогда я еще подумал, что, наверное, именно такой ветер мог бы называться "ветром свободы". Я помню, как непроизвольно вздрогнул, услышав вдруг совсем рядом громкий, детский крик: "Папа! Папа!" Резко обернувшись, я увидел, как по дорожке ко мне бежал Уильям, а сзади стояла твоя мама с большим рыжим плюшевым медведем в руках. Скиннер прислал мне открытку на Рождество. Кто бы мог подумать, Скалли, но оказывается, у него есть собственный небольшой домик в горной глуши, на границе с Канадой. Он написал, что ему требуется моя помощь, и попросил срочно приехать к нему. И знаешь, я почему-то поверил ему. Когда мы встретились, он крепко обнял меня за плечи и предупредил, что никуда не отпустит на время каникул, что я могу расценивать это или как приказ начальника, или как дружеское предложение, но он с меня глаз не спустит, и мне отсюда без его разрешения не выбраться. Скалли, оказывается, наряжать елку со Скиннером - это что-то невообразимое. Помнишь, этим всегда занималась ты, а я считал, что совершенно на это не способен? Знаешь, после этого Рождества моя самооценка в этом вопросе заметно выросла. Признаюсь, мы никак не могли придумать, чем украсить верхушку, и Уолтер вздохнул с облегчением, когда я вдруг предложил для этой цели маленький глобус. Тот самый, что мы с тобой подарили ему когда-то на юбилей государственной службы. И этот глобус совсем неплохо смотрелся в качестве елочного украшения. Вечером в первый день нового года мы долго пили чай, сидя на деревянной застекленной веранде. Скиннер много вспоминал, рассказывал о прошлом и пил почти кипяток, а я молча слушал, и моя кружка всегда успевала практически остыть до того, как я брал ее в руки. Помню висевший в воздухе густой аромат мяты, и каждое мое движение - даже легкое, чтобы поправить сбившийся клетчатый плед, - отзывалось протяжным, жалобным скрипом старых половиц. Потрескивал камин, и у стены стояли две пары лыж, сохнущих после дневной пробежки к замерзшему водопаду, на которую меня все-таки уговорил Скиннер. Помню, мне было тепло и уютно, а потом из глухого оцепенения меня вывел далекий голос Уолтера и его рука на моем плече. Тогда на щеках и губах я снова ощутил горячие, мучительные дорожки слез, их горечь и соленый вкус обжигали мне сердце, а оно разрывалось от невыразимой тоски и тяжести отчаянной утраты. Я долго не мог остановиться. Но буду помнить слова Скиннера: "Отпусти ее, Малдер. Прошу тебя. Дай ей уйти. Ей сейчас легче. Она не испытывает боли и физических страданий. Но я уверен, ее душа всегда будет здесь, рядом с тобой. Отпусти ее." Так проходили мои дни, Скалли. Знаешь, у Уильяма твои волосы, и Мэгги говорит, что - мои глаза. А еще у него твоя - такая серьезная - убежденность в своих словах. Вчера он рассказал мне, что сообщил мисс Рей, своей воспитательнице в детском садике, что когда вырастет, хочет стать доктором, как его мама. Я люблю тебя, Скалли. Я так по тебе скучаю. Мне так не хватает тебя. Я знаю, ты здесь, рядом. Мы скоро встретимся и всегда будем вместе, любимая. Две белых, пронзительных розы легли на чёрный, холодный надгробный камень. Даже при туманном безветрии нежные, прозрачные лепестки слегка трепетали и отбрасывали длинные колеблющиеся тени на гранитную плиту с надписью: "Дана Кэтрин Скалли. 02.23.1964 - 11.29.2005. Любимая дочь, преданная мать, верный друг." |