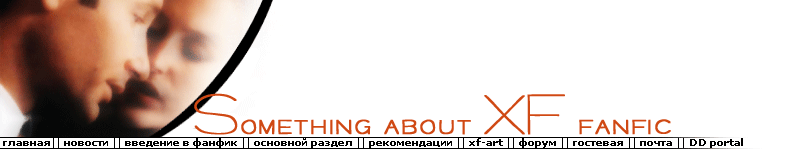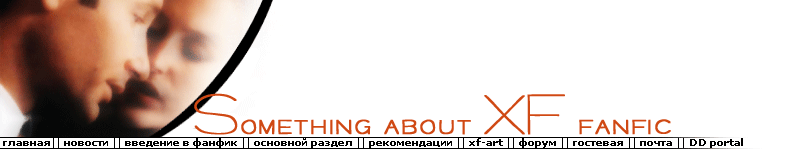ПЕРЕВАЛ
Автор: Ангелина Нелюбова
------------------------
Хруп… хруп… хруп… хруп… Шшшш…
Каменная осыпь зашуршала, заговорила под двумя десятками подошв кроссовок и тяжелых армейских ботинок, разбитых долгой дорогой. Чье-то чертыхание, чей-то предупредительный выкрик, и вот, в считанные секунды все десять оказываются внизу, у подножия
Камень, камень, камень, камень… насколько хватает глаз. Каменистая пустыня, скалы, ущелья, колючий цепкий кустарник, выгоревшие серо-седые клочья травы, белесые солончаки. Хуже всего бывает, когда тропа теряется в песчаных осыпях, в которые беспощадное солнце и ветер медленно, тысячелетиями перемалывают эти скалы. Тогда над цепочкой след в след идущих друг другу людей повисает почти невидимое красно-бурое облачко, взмывающее из-под ног и оседающее вниз, покрывающее руки, лица, взлохмаченные волосы, песок набивается в ботинки, режет кожу, скрипит на зубах, оставляя во рту горячий вкус металла и земли. А солнце палит все так же безмолвно.
- Чертова сковородка, - ворчит один, стирая с лица пот, заливающий глаза. Пыль на его рукаве, на его лице, мгновенно смешивается с влагой, добавляя еще несколько разводов к и без того покрытому грязевой маской лицу.
Остальные молчаливо соглашаются, берегут оставшиеся силы, необходимые для подъема на следующую вершину.
Тропа, узкая, почти незаметная, то ныряет в каньон, то взмывает обратно, наверх, к следующему гребню, но везде одно и тоже: камень, песок, чахлая растительность и невыносимая жара. Они должны пересечь перевал и выйти в долину через несколько дней. Там, по крайней мере, будет вода.
Должна быть.
Десять человек идут цепочкой, почти пригибаясь к вздыбившейся им навстречу земле. Воротники расстегнуты, спины взмокли под тяжелой ношей, легкие жадно глотают разреженный воздух, и одежда блестит от пропитавшего ее пота.
Тот, кто недавно проклинал здешнее пекло, не выдерживает. Он останавливается и снимает нагретую солнцем жестяную флягу с пояса. Его рука делает чарующие взбалтывающие движения, словно в сосуде не обычная теплая вода, от которой только мутит в такую жару, а лучший виски. Он оборачивается и, откручивая пробку, сначала жестом предлагает напиться человеку, который терпеливо ждет за его спиной. Тот отрицательно качает головой, опуская взгляд к наручным часам. Его лицо, как и у всех покрытое разводами пыли, смешанной с потом, ничего не выражает. Кажется, что он дремлет. Человек с фляжкой усмехается и пьет.
Два маленьких глотка. Два маленьких или один большой. Это выбор. И каждый в цепочке делает свой выбор раз в два часа. Это несложное арифметическое вычисление с использованием правила, вызубренного еще до первого посещения школы. Это их единственный выбор… пока.
- Ты вообще еще не пил сегодня, - замечает он своему невольному соседу в цепи, пряча фляжку после того, как заветный выбор сделан. - Собираешься принимать душ вечером?
Тот никак не реагирует. Его глаза, прищуренные ровно настолько, чтобы можно было видеть каменистую дорогу под ногами, с одинаковым интересом рассматривают и спутника и нависающие над тропой красные скалы.
Тот отворачивается и, беззвучно выругавшись, продолжает путь.
Хруп… хруп… хруп… хруп…
Солнце похоже на огромную лампу. Его лучи припекают затылок и раскаляют поклажу на уставших натруженных спинах.
Хруп… хруп… хруп…
Кажется, что ноги погружены в горячее масло. Они мечтают о высокой росистой траве, светло-зеленой речной воде и кубиках льда, голубоватых, прозрачных и крепких как бриллианты.
Хруп… хруп… хруп…
Шшш…
Пыль поднимается и оседает ровными облачками, такими же монотонными и привычными, как скрип обуви и хруст камня. Пыль набивается в уголки прищуренных глаз и хрустит на зубах.
Хруп… хруп…
Жара.
Предпоследний в цепи вновь останавливается и нервно тянет свою флягу, чтобы напиться. Но ему мешает сосед: так часто пить нельзя. Тому, похоже, наплевать, он отталкивает удерживающую его руку и вновь тянет горлышко фляги к губам. Но ему вновь мешают, дергая его кисть в железных тисках своих пальцев, безмолвно приказывая остановиться.
- Да пошел ты! - яростно хрипит его оппонент, сильнее дергая руку, пытаясь избавиться от крепкого захвата.
- Эй! В чем дело?! - крик доноситься с гребня скалы, за которую перевалила уже почти вся маленькая группа.
Человек на вершине бережет легкие и не повторяет вопроса. Двое внизу молча смотрят друг на друга.
- Да пошел ты, - повторяется уже без всякой злости.
Захват ослабевает, и рука с флягой вздрагивает от неожиданно обретенной самостоятельности. Так и не сделав неурочного глотка, человек прячет драгоценную воду и спешит туда, где уже ждут ушедшие вперед спутники. Замыкающий в цепи все так же равнодушно следует за ним. Его лицо остается не подвижнее гипсовой маски. Он поднимается медленно, размеренно, ни на секунду не ускоряя шага. Он не воспринимает путь по этой дороге как борьбу с ней. Он не морщиться, не так часто, как остальные вытирает лицо, не сплевывает в придорожную пыль слюну пополам с раскаленным песком. Его грудь равномерно поднимается и опадает под клетчатой рубашкой.
Человек наверху все еще ждет его и спрашивает, когда тот проходит мимо:
- Все в порядке?
Молчание. Кивок.
Хруп… хруп… хруп…
Шшш.
Вчера они миновали развалины атомной электростанции. Они прошли в тридцати милях от устрашающих руин, выглядевших, в окружении алых гор и алой земли, словно куски бразильского рафинада в глиняной сахарнице. Ослепительно белые камни обжигали нежную сетчатку глаз под лучами равнодушного к мукам людей солнца. В безмолвной пустоте иллюзорное шуршание гейгеровских счетчиков походило на шепот. "Шепот ангелов", - мрачно пошутил кто-то. Одному Богу известно, какую "дозу" лучей они получили вчера. Казалось, здесь, на плато, все было мертво под вечно раскаленными лучами. Даже останки животных, попадающиеся на пути, высохшие и мумифицировавшие.
Тропа снова ныряет в расселину между скалами, где проход такой узкий, что камень, кажется, сжимает уставшие плечи. Несколько секунд влажной тени, почти неощутимой в душном раскаленном воздухе, и солнце снова щиплет обожженную кожу на затылке.
Шуршащий кроваво-красной осыпью склон спекает прямо в ущелье. Прыгая и увертываясь, камни летят в бесконечно глубокий зев каньона. По затерявшейся в их неверной россыпи дороге переправляются поодиночке, жесткими ладонями держась за страховочную веревку. Впервые развернутая, она неожиданно издает долгий свистящий звук, поколебленная воздухом, который, вытекая здесь, меж скал, создает некое подобие ветра. Кто-то дышит и молча улыбается. Легкие жадно расправляются под напором горячего разреженного воздуха.
Он идет последним, продев край страховки в ременную петлю на поясе джинсов. Он проделывает этот путь с не то улыбкой, не то гримасой на покрытом грязевыми разводами лице, замечая коршуна в выцветшем бледно-голубом небе.
Птица планирует, совершая круг над ущельем, многократно отражающемся в ее черном зрачке.
Единственная движущаяся точка в выжженном небе.
- Что он жрет в этой чертовой пустыне? - лениво спрашивает кто-то, как и остальные, жадно наблюдая за полетом коршуна.
- И чем ты только занимался на уроках в средней школе?
- А он их прогуливал, - раздается другая насмешка.
Коршун завершает круг и решает спикировать в каньон.
- Все, вечеринка окончена, - раздается усталый выдох.
Снова выстраиваются в цепочку, снова выгибаются под тяжестью груза и солнца усталые спины. Путь продолжается.
Он все так же идет последним. Его голова непокрыта и, невесть откуда берущийся слабый горячий ветер, больше похожий на болезненное дыхание, ворошит выгоревшие волосы. Взгляд прищуренных глаз скользит по тропе.
Хруп… хруп… хруп…
- Осторожнее!
Он поднимает голову, когда неожиданно натыкается на спину идущего впереди.
- Осторожнее, - снова ворчит тот, отвинчивая обжигающую пальцы нагревшуюся пробку фляги.
- … не раньше, чем мы спустимся, - доноситься тихий выдох в ответ.
- Да пошел ты! - торжествующе бросает тот, кто держит свою флягу.
Неосторожное движение нетерпеливой руки заставляет воду выплеснуться изрядной порцией из узкого горлышка, и секундой позже, так же как и воду, злость ее хозяина.
…Кровь из рассеченной губы попала ему в рот.
Теплая, отдающая железом.
Он облизал губы, чувствуя первую, начиная с сегодняшнего полудня, каплю влаги в пересохшем рту.
Солнце припекло увлажненную ранку, с запозданием принеся боль.
Ему хотелось чувствовать боль.
Иногда.
Это хотя бы напоминало, что он еще жив.
Но сейчас был не тот случай.
…- Как ты?
- Он спятил!
- Заткнись, Хоумленд! С тебя хватит на сегодня! Иди вперед!
- Господи, да парень явно перегрелся!
Странный звук обрывает истеричный выкрик.
- Вперед, я сказал! Дальше пойдешь со мной!
Удаляющиеся шаги. Приближающиеся шаги. Шуршание одежды.
Рука, грубая и жесткая, приподнимает его подбородок, и солнце так беспощадно режет глаза, что ему приходиться крепко прищуриться.
- Неотразим, - доноситься бурчание откуда-то сверху.
Он отдергивает голову, пригибаясь к коленям. Все та же крепкая сухая рука проходиться по его волосам, чуть ероша их: не то пожурила, не то приласкала как ребенка, чья шалость обернулась тем, что была разбита любимая мамина ваза.
- Рэнди!
Рэнди в полусотне метров отсюда. Понадобиться время, чтобы она сначала оценила перспективу возвращения назад по проклятой каменистой тропе, а затем начала движение.
Понурив голову, он наблюдает, как, взметая пыль и разбрасывая мелкие камни, к нему приближается пара тяжелых армейских ботинок. Он прикрывает уставшие глаза, изгоняя обувь из поля зрения.
- Вставай, - полупросьба-полуприказ.
Веки подымаются помимо его воли, снова демонстрируя глазам чужую пропитанную пылью обувь. Хозяин ботинок, не выдержав, опускается на корточки рядом, ловко кладя горячий затылок пострадавшего на изгиб локтя, чтобы, оценив ярко алеющие ссадины на лице, огорченно цокнуть языком.
- Твои родители не учили тебя не связываться с плохими мальчиками?
Он молчит, и она, воспользовавшись этим, прикладывает сухой марлевый тампон к его кровоточащей губе. Нет воды, чтобы промыть царапины, и солнце щедро прижигает свежие следы, почти незаметные на лице, приобретшем цвет охры. Бинт царапает кожу, быстро впитывая яркую алую каплю.
- Дерьмо, - доноситься до него сердитый шепот Рэнди, - в этом пекле я даже не могу сделать тебе противостолбнячную.
Рэнди - врач.
Была и, по крайней мере, осталась им.
Она никогда не говорила "была". Она врач. Это больше, чем приобретенная когда-то профессия. Врач. Мало что осталось. Без белого халата и стетоскопа, без палат и мониторов. Пациенты - это то, чего хватает в избытке.
- Вставай, Малдер! Я не собираюсь загорать здесь из-за тебя.
Теперь она пойдет рядом с ним.
Высокая как он, черноволосая как он, загорелая до черноты. С минуту они идут рядом.
- Что вы не поделили с Хоумлендом?
Ему даже не надо смотреть в ее глаза, он знает, что там. И он молчит.
- Здесь такая… пустота… - шепчет она, пытаясь избавиться от повисшей тишины, нарушаемой лишь звуком их шагов.
И все так же смотрит в его лицо, словно пытается прочесть его мысли.
Она почти пугается, заметив усмешку на его запекшихся губах.
- …здесь больше… - слышит она отрывистый шепот.
Тропа слишком узка для двоих, и он остается позади, созерцать рюкзак на ее спине. Она идет молча, несколько минут думая о том, что он хотел сказать.
В его голове мысли улетучиваются подобно каплям воды под добела раскаленным солнцем.
Сейчас они были не нужны ему. Воспоминания и видения, не приносящие ничего, кроме ноющей боли. Скоро будут другие мысли, идеи, коварные и изощренные способы, проскользнуть, прокрасться, уничтожить, уйти.
Выжить.
Последняя мысль была доминирующей. Он, одержимый смертью, делал все, что жили другие. Искупая вину за все жизни, что он не смог спасти.
- Малдер, тебе плохо? - Это Рэнди обернулась, внезапно не услышав привычного звука шагов за спиной.
Он отнял руку от занывшего виска.
- Я в порядке.
Недоверчиво кивнув, она отворачивается, чтобы продолжить путь, а его теперь вовсе не занимает дорога.
Память, словно хищная птица, пожирающая его раз за разом, впивается в мозг, в тело, в сердце, заставляя вновь и вновь думать, помнить, знать. В этой жизни его изумительная, фотографическая, жестокая память была его совестью.
Его отец. Его сестра. Его друзья. Его сын. И его партнер.
Выжженные в его сердце. Его память была беспощадна, хотя он даже ни разу не просил о милости. Никакие мольбы, никакие кошмары не стерли бы из памяти воспоминания о них.
Скалли.
Он помнил все: голос, жесты, улыбку, глаза, руки. Ее упрямство, ее силу, ее веру.
Ее нежные губы, теплые и щедрые.
Осторожный поцелуй, словно благословение перед решающей битвой.
О, Скалли! Тогда он еще не знал, что томящее их предчувствие исполниться в точности.
Он помнил, хотя у него было почти три года, чтобы забыть. Слишком мало, чтобы забыть. Сколько жизней понадобиться ему, чтобы забыть!
- Ммм.
Он даже не понял, как громко простонал сквозь крепко сцепленные зубы.
- Малдер? - Рэнди приблизилась, обеспокоено трогая его плечо. - Малдер, ты в порядке?
- Да.
Он не поднял головы, внутренне содрогнувшись при звуке своего имени… фамилии,… нет, имени, того, которым она называла его, она, его Скалли. Молнии полыхнули под плотно прикрытыми на секунду веками.
Столько дней время текло как песок меж пальцами, а они даже не знали об этом, не видели, не замечая времени. Короткое человеческое счастье, такое же простое, незамысловатое, как песок, такое же непостижимое, как само время.
Скалли.
Самый сладкий, милый, желанный звук на свете. Ее имя. Как заклинание, талисман, оберегающий от нечаянной беды.
Скалли.
Склонившаяся над ним, на корточках сидящим у стены, на подземной стоянке отеля "Уотергейт". Ее рука мягко касается его волос, чтобы погладить, утешить, словно обиженного ребенка. Нежная улыбка и простые ободряющие слова.
Его вера.
В дверях его квартиры. Мягкий нежный поцелуй в лоб, как печать, как клятва, как обещание быть вечно с ним.
Его надежда.
Прозрачная слеза скользит по бледной щеке, когда он наклоняется к ней, но сквозь слезы она улыбается: ты прав, Малдер.
"Ты заставляла меня бороться, заставляла верить. Благодаря тебе я стал честным. Я всем тебе обязан…".
Его жизнь.
В мягком полусумраке ее спальни обнимающая его. Ее губы раскрываются навстречу его губам, и все его существо устремляется к ней в нескончаемо долгом поцелуе.
"Истина, которую мы оба знаем".
Его любовь.
У порога, у открытой двери, провожающая его. Улыбка, как обещание скорой встречи, с полным знанием того, что для разлуки отпущена вечность, и невыносимая мука в прозрачных глазах. Нежное прикосновение пальцев к щеке. Влага ее слез на его коже, когда он крепко прижимается щекой к ее щеке.
Множество часов невыносимой тоски. Ночи, до краев полные боли, когда в тишине крошечной комнаты мотеля он молча оплакивал свои потери. И не с кем было разделить эту тяжесть. Дни, пустые и однообразные, текли один за другим в мелочных заботах, но память, неусыпно следящая за каждым его шагом, не оставляла даже днем, потому что в этих днях не было Скалли. Той, которая была с ним всю его жизнь. Которая была его жизнью.
Оставались только вечера, когда строчки ее писем расплывались перед его глазами, и ему казалось, что в пустой комнате ее голос шепчет ему о боли и надежде, и о том, как сильно она любила и любит его, о ее тоске и страхе, и об их маленьком сыне, которого ему пришлось оставить вместе с матерью.
…Новый стон заклокотал в пересохшем горле! Остановил вовремя, не дал вырваться наружу, привести к новым расспросам, вызвать недоумение и слепое сочувствие у той, в чей затылок упирался его взгляд. Не замедляя шага, отер испарину со лба и расправил плечи, заставляя себя идти свободнее. Расслабиться не вышло. Мышцы тугими канатами обвили тело. Снова и снова вспоминая все, он проходил через свой ад, не замечая дороги прищуренными глазами.
Уильям.
Его сын, рожденный женщиной, которая, как считали, была бесплодна.
Его чудо, на которое ни он, ни Скалли не смели даже надеяться.
Крошечное свидетельство его жизни, собранной из осколков непрочной памяти, где призраки властвовали так долго.
Он помнил его синие как у матери глаза и пухлые губки, улыбающиеся или капризно надутые. Помнил безмятежное личико в минуты сна, когда посреди ночи он стоял у колыбели в спальне и втайне любовался им. Помнил крошечные кулачки, сжимавшие его пальцы, и упрямую силу ручонок, обнимавших его за шею, когда он укачивал его, своего сына. Нежность и силу, что он чувствовал вместе с теплом и приятной тяжестью маленького детского тельца в своих руках, мужественность, желание приласкать, защитить.
Он не смог даже этого. Разбитый сомнениями и слишком долго ощущавший лишь собственное бессилие. Он оставил своего сына и любимую женщину и получил раздирающую на части боль и нескончаемое одиночество, более жестокое и полное, чем он когда-либо до этого знал.
"Малдер, когда он повзрослеет и спросит об отце… Что я смогу ему сказать?"
Но ни он, ни Скалли даже не подозревали, что очень скоро им предстоит еще более долгая и тягостная разлука….
Хруп… Хруп… Хруп…
Тропа свернула, и теперь солнце светило справа, опаляя щеку, припекая ухо. К вечеру кожа там покраснеет, воспалиться, а через несколько дней начнет шелушиться прозрачными чешуйками.
Интересно, кто первый придумал выстроить полигон в этих чертовых горах?
…Улицы не было. Он с трудом понял, где находиться ее дом только по обгоревшему высокому клену, чья крона пожелтела и все еще тлела от нестерпимого жара. Но как только он понял, что произошло…. Там, под грудой обугленных, спекшихся в пламени кирпичей осталась его жизнь. А его уделом отныне должна была стать смерть.
Его вера никогда не была верой христианина. Он не посещал месс, не бывал на проповедях, не возносил беззвучные молитвы за семейным ужином. Но в тот раз он молил неведомого Бога о жизни. Так горячо и всеми словами, что знал.
… Он не помнил, сколько времени провел там. Очнувшись, он увидел Скиннера, склонившегося над ним. Тот не сказал ни слова, мрачен и молчалив, он легко приподнял его с колен, едва ли не швырнул в раскрытую дверцу припаркованного фургона и завел мотор.
Он не помнил машины, не помнил дороги, помнил только, что обивка сиденья была кожаной, и запах совсем как у его дивана - место, где он проводил больше всего времени в своей квартире. Его и Скалли крошечный, уютный мирок, где они смеялись и ели пиццу, смотря видео в пятницу вечером, и засыпали, доверчиво обнимая друг друга без обещаний, без претензий.
Отчаяние обожгло соленым глаза, и через некоторое время он крепко уснул, как наплакавшийся ребенок. Когда он проснулся, автомобиль ехал по дороге на Запад, и Скиннер, храня все тот же мрачный взгляд, рассказал ему обо всем, что происходило. Он говорил ровно, спокойно, не повышая голоса и не меняя интонаций, словно они по-прежнему находились в его кабинете в штаб-квартире, получая очередное назначение.
Голод, болезни, страдания, смерть. Мир лежал в руинах. Люди метались в панике, погибали, сходили с ума. Лишь немногие из них пытались наладить жизнь, организовать сопротивление страшной силе, противостоявшей им, но тех немногих с каждым днем становилось все больше. И все же им требовались колоссальные ресурсы, и материальные, и человеческие, чтобы бороться и выживать. Время было их врагом, и оно уходило слишком быстро, но еще быстрее уходили люди. Ослепленные яростью после гибели близких, раздавленные отчаянием, угнетенные бессилием, озлобленные своими и чужими страданиями.
Среди них Скиннер был и остался солдатом. Он как будто бы мстил за заместителя директора ФБР, не имевшего возможности так долго выбирать линию огня, линию фронта. Теперь он мог выбирать, и его позиция была однозначной без уступок и середин, без пощады и компромиссов.
Он никогда не предавался воспоминаниям. Не вслух. Но его глаза порой пристально смотрели в глаза Малдера, и тогда не надо было что-либо говорить, потому что он разделил вес его вины.
Он уважал Скалли, ее силу и мужество прекрасной женщины. Он оберегал ее долгое время. Но так и не смог уберечь.
Скиннер погиб во время нападения на одно из укреплений. Погиб из-за случайности, которую никто не мог предусмотреть, мгновенно и почти безболезненно, получив всего одну свинцовую пулю на дюйм повыше бронежилета. Рикошетом. Насмерть.
Надо было быстро убираться, и они не могли похоронить его тело в земле. Его кремировали, предоставив ветру возможность разметать прах по обгоревшим камням, и могилой стала вся земля взамен маленького поросшего травой холмика.
…Шшш…
Шуршание каменной осыпи словно успокаивает его нестерпимую нескончаемую боль.
Шшш…
Словно баюкает рвущийся наружу крик.
Шшш…
Оторвавшиеся от своих собратьев бесформенные красно-бурые валуны застучали по склону, высекая искры из твердых каменных складок, грозя сбить с ног замешкавшихся людей.
Удар приходиться чуть выше щиколотки, и он непроизвольно морщиться, когда приходит эта, другая боль, притушившая разбереженную душевную рану, а взгляд прищуренных глаз упирается в извивающуюся ленту почти неприметной тропы, предвещающую следующий подъем.
Вопль заставляет его вскинуть голову, а глаза - мгновенно распахнуться, чтобы видеть больше, чем дорога перед собой. На гребне скалы, где тропа, обрываясь, упирается в небеса, человек машет всем остальным и что-то отчаянно кричит, срывая и без того охрипший голос.
- Тебе не померещилось Браун? - громко спрашивает Рэнди, гадая, слышит ли тот, и, не дожидаясь ответа, карабкается наверх. Остальные ползут молча, изредка чертыхаясь, когда нога соскальзывает с казалось бы прочного выступа, грозя вывернуть стопу.
На вершине неожиданный порыв горячего ветра ударил в лицо. Впереди, внизу, среди красно-бурых пятен скал, лежало маленькое озерцо, окруженное сочными мазками осоки. Его нахождение здесь казалось настолько нереальным, что многим захотелось протереть глаза. Потрескавшиеся губы расплылись в улыбке.
- …призрак…
Он повернулся с новой волной боли, захлестнувшей сердце, и мгновение спустя понял, что была произнесена не его старая кличка. То, что прошептала Рэнди, относилось к озеру.
Шшш….
Снова зашуршали, зашлепали камни, увлекаемые вниз, но шепот каменной осыпи заглушили крики сумасшедшей радости.
…Озерко было крошечным, оно брало начало у родника, спрятанного под скалой. Видимо, соседство гигантского каменного козырька, многотонной махиной нависавшего над источником, не давало тому пересохнуть. Оттуда вода уходила по руслу, глубиной не больше метра-двух; оно расширялось, затем сужалось и, наконец, рассыпалось на множество ручейков, терявшихся в болотистой топи, сплошь поросшей осокой. Ее копьевидные стебли упирались в знойное небо, словно грозя распороть его синеву, освободив прозрачные потоки дождя. Кряжистый кустарник по берегам полоскал кончики длинных ветвей в прозрачной воде ручья.
…Вода была прохладной, пресной, с непонятным легким привкусом, который почти не чувствовался. Человек, потреблявший несколько глотков воды в день в течение вот уже нескольких суток, заметить это просто не в состоянии.
Они пили жадно, до изнеможения, захлебываясь, но все равно продолжая пить, словно стараясь пропитаться этой водой, чтобы хватило еще на много дней мучительной жажды. Пили до тех пор, пока вода не стала стекать по подбородкам, выливаясь из уставших ртов, щедро плескали в лицо, натирая кожу, смывали грязь и пот. На время словно позабыли о пустыне, о палящем солнце, о боли в натруженных мышцах, об угрожающем соседстве невидимой опасности; торопливо мылись, полоскали пропылившуюся одежду, чтобы, натянуть ее, еще мокрую, на влажное тело.
… Он поднял голову из воды, и, глядя на свое отражение, разбиваемое каплями, падавшими с его лица и волос, снова наклонился, чтобы погрузить голову в ручей. Вода ласкала его волосы, щекотала шею и щеки, унося грязь и красноватую пыль. Он открыл рот и стал глотать эту воду, чувствуя, как она прокатывается по пищеводу в желудок, остужая саднящее от пыли горло.
Кто-то тянет его за воротник.
- Полегче, приятель, - Командор останавливается подле него, - мне только утонувших не хватало.
Его отвлекает крик.
Один из разведчиков, достигший очередной вершины, стоит там и отчаянно машет рукой.
- Что там?!
Но он молчит и только призывает всех отчаянными жестами. Что бы там не оказалось, они должны подняться к нему. Со стонами, чертыхаясь все устремляются дальше по тропе, исчезающей меж двух вплавленных друг в друга скал, выпиравших наружу из каменистой осыпи вперемежку с просоленными клочками травы буро-желтыми хребтами.
Приглушенная брань рассыпается по кромке холма, перелетая от одного человека к другому, и падает вниз, в другую крошечную долину, приютившуюся меж скал, образовавших большую чашу с идеально отшлифованными ветрами, солнцем и временем стенами. Испещренные багровыми полосами с невиданными узорами складки скальных одежд стекают вниз, к маленькой хижине, у подножия скал, цепкий кустарник закрывает стены от взглядов, изумленных и не верящих, а позади дощатого домика, невесть откуда тут взявшегося, тянутся к опаляющему солнцу… высокие ярко-зеленые стебли кукурузы.
- Чертов мираж!
Командор болезненно морщиться, обводя взглядом свой отряд, и потирает челюсть, словно застарелая зубная боль нагнала его, и вновь бормочет ругательства. Остальные молчат. Что толку бросать слова на ветер, когда каждый вдох дается с трудом.
- Откуда это здесь?
Риторический вопрос повисает в нагретом разреженном воздухе пополам с невеселыми мыслями о противомоскитных сетках, липнущих к влажной от пота коже.
Но раньше, чем кто-нибудь смог что-то предпринять, зашуршала каменная осыпь, увлекаемая вниз разбитой обувью, поднимая облачко пыли, через полминуты он был уже у подножия холма.
И Малдер пошел вперед, туда, к дому…
Не видя людей, столпившихся за его спиной. Не слыша их окриков.
- Назад!
- Малдер, куда ты?
Хоумленд.
- Малдер стой!
Рэнди.
- Малдер!
- Остановись, это может быть ловушкой!
Они двинулись следом, держась на расстоянии, сжимая наготове оружие. И никто уже почему-то не думал о пчелах.
Он продолжал идти спокойно. Как много лет назад шел по полю, по колено в высокой степной траве. Как много часов навстречу смерти. Как много раз, оставляя недоумевающих и тревожащихся людей следить за каждым своим шагом. Одна пуля могла решить все.
Это была каменистая равнина.
Не летели навстречу горячие жала свинцовых пуль.
И его ангел не стоял за спиной, моля Бога о жизни.
Вот и вся разница.
"Я просто подумала, Малдер. Что если есть единственная верная дорога, а все остальные ошибочны".
Дождись меня, Скалли.
"Один неверный поворот…"
Дождись меня, ты встретишь меня у порога, там, где мы расстались.
Ты видишь меня, я знаю. Это небо - твои глаза. Дождись меня.
Любовь вернется как любовь.
Тридцать шагов… двадцать… он не считал их.
Узловатые стволы неизвестного кустарника, словно жилистые руки старика, темные и перевитые венами, с увядшей кожей и исчезнувшими мускулами, сухие, цепкие, желто-коричневые.
Шелест ветра меж стволами кукурузы.
Дверь. Теплое шершавое дерево.
Словно во сне он проходил через это, казалось, в тысячный раз в бесконечной веренице смертей и возрождений. Суждено ли в этот раз… умереть. Что значит теперь физическая смерть в сравнении с мукой жизни.
Остается один шаг. Последний. Шаг веры.
Приоткрыть дверь. Что за ней? Пустота после короткой обжигающей боли, которую, он был уверен, даже не почувствует в кипящей клокочущей ране, в которую превратилась душа. Рай? Ад? Покой? Длинные тоннели, манящий ослепительно яркий свет.
Кем он станет в будущей жизни?
Эта мысль вызывает неожиданную улыбку на его лице. Настоящую человеческую улыбку, не смешанную со жгучей болью. Это только надежда и любовь. Кем бы он ни стал, она будет рядом! Зло приходит как Зло, Любовь как Любовь. Это закон Жизни, закон Вечности, огромной непостижимой Вечности Бытия.
Словно живая стоит она в дверях перед ним, такой, какой видел в последний в этой жизни раз, протягивает руку, гладя его по щеке, отвечает на поцелуй, улыбается. Прикоснись, и ты почувствуешь ее тепло! Сделай шаг!
Любовь возвращается как любовь.
Последний шаг. Сухая ладонь трогает неровно оструганную двухдюймовую доску, рядом с отполированной многократными прикосновениями ручкой, пытаясь угадать, в какую сторону открывается дверь.
Видение разбито. Слишком хрупки призраки умерших, слишком легки и невесомы для ладоней живых. Растрескавшееся пересохшее дерево со скрипом поворачивается на петлях, пропуская в жилище, неведомо зачем пришедшего человека, и в скрипящем звуке явственно слышится вопрос: "Кто ты?"
"Кто ты?"
Мягкий сумрак окутывает глаза, баюкает, успокаивает воспаленные веки, но света достаточно, чтобы увидеть: маленькие окошки хижины плотно зашторены, а посередине комната разделена дощатой стеной. Дверной проем загорожен занавесью.
Еще один шаг.
В такт скрипят под ногами половицы.
Он отодвинул занавеску с намерением шагнуть вперед, но ему пришлось замереть на пороге, когда мозг зафиксировал то, что могло бы показаться видением.
Ребенок, еще совсем маленький мальчик, в большой не по размеру футболке с надписью "New York Knicks".
Он стоял на своих маленьких ножках, скрытых длинной одеждой, ухватившись крошечными пальчиками стул, и взирал на незнакомца не то испугано, не то удивленно.
- Назад. - Не то приказ, не то сдавленный вскрик. Темное дуло пистолета уставилось прямо в лицо Малдера, а побелевшие от напряжения пальцы, облепившие рукоятку оружия, не знали сомнения, жалости или страха, только указательный подрагивал на курке.
Судорожный, свистящий, сквозь зубы выдох вырвался одновременно с испуганно вздрогнувшими плечами, и в ту же секунду плач ребенка вдребезги безжалостно разбил тишину, хлестнув по натянутым струнам нервов, грозя оборвать. Рука с пистолетом беспомощно повисла вдоль тела, и оружие само собой выскользнуло из цепких сильных пальцев, которые сжали теплое тельце малыша, баюкая его, унимая плач. Не вышло. Ребенок закричал громче, словно в приступе страха, и надежные руки матери баюкали его еще нежнее, держали крепче, унимая собственную дрожь. Надо бы заговорить, зашептать, отвлечь от беды, вызвавшей горячие детские слезы, но онемевшие губы не слушались, только глаза, синие, чистые, словно омытое дождем небо, с глубокими омутами зрачков смотрели на человека у дверей.
Он стоял с пересохшим ртом, не смея пошевелиться, не смея дышать, страх застилал взор, как недавно пот. Страх, что вот-вот исчезнет женщина и маленький мальчик, что это окажется сном, видением, жестоким в своей реальности. Боялись ощутить незаметно дрожащие руки истертый деревянный настил пола, чтобы впиться судорогой скрюченными пальцами в пыльные доски и, раздирая кожу, царапать его, размазывая кровь, чтобы болью рук унять захлестнувшую боль сердца.
Секунда, другая, время побежало, словно и не замедлялся торопливый пересчет секунд. Не исчезли, остались на месте женщина и ребенок на ее руках, более настоящие, чем обожженная до красноты пустошь каньонов.
Малдер с усилием оттолкнувшись от стены, понимая, как трудно было сделать это, и на одеревеневших, ничего не чувствовавших ногах делает шаг, потом другой, третий, и еще один. Больше было не нужно, комната невелика. Колени уперлись в пол, не оставив на нем ни единого следа.
Приоткрытая дверь, подхваченная внезапным сквозняком, хлопнула громко, отрывисто, словно кто-то со всего маху влепил тяжелым молотком по стальной шляпке большого гвоздя, до основания вколачивая тот в дерево. И почти в тот же миг дверь снова распахнулась, во всю ширину створки, грозя слететь с петель, пропуская людей, смешанных с яростью и страхом. Им показался удар о косяк деревянной двери хлестким пистолетным выстрелом. Сорвали занавесь, стали, замерли у порога, оружие само собой опустилось с не знающими усталость и пощаду, привыкшими к боли, обожженными солнцем руками.
Ночью в пустыне, кажется, больше жизни, чем днем. Крики ночных птиц и треск насекомых наполняют воздух.
Он сидит на ступеньках, на крыльце, подтянув колени к груди, обхватив их руками и упершись подбородком. Он впитывает тишину вперемежку со звуками пустыни, одновременно вслушиваясь в собственное сердце, пытаясь уловить отголоски боли, мучившей его столько лет.
Позади скрипнула дверь, и что-то мягкое опустилось ему на плечи.
- Здесь холодно по ночам. - Она застенчиво поправляет одеяло, укрывая его, и садится рядом.
Он поворачивает голову и долго неотрывно смотрит на нее, а потом убирает край одеяла.
- Иди сюда.
Она молчит, отвечая таким же долгим взглядом в его глаза, и в ее он видит неуверенность, осторожность, словно белый туман над темной синей водой лестного озера. Он протягивает руку ладонью вверх, не отпуская ее взгляда.
Ожидание.
Преодоление.
Ее ладонь ложиться в его, и пальцы тотчас же переплетаются, отыскивая привычные бугорки и впадинки.
Они вспоминают это.
Линия жизни к линии жизни.
Возвращение.
Малдер вдруг поднимается стремительно, как порыв ветра, и как от ветра уже нельзя уйти, она оказывается окруженной им. Его руки оказываются за ее спиной, и в следующую минуту он тянет ее назад, к себе.
- Малдер.
Она оказывается на его коленях раньше, чем успевает что-то сказать, прижатая к нему под одеялом, укрывшим их обоих. Притиснув ее к себе, прильнув щекой к ее плечу, он замирает, ни на секунду не ослабляя объятий, словно желая слиться с ней воедино. Навсегда.
Руки Малдера держат ее крепко, уверенно, сильно. Щекой прижавшись к его волосам, она устало закрывает глаза и слышит его шепот:
- Расскажи мне.
Он не говорит, а она не спрашивает, о чем? Их связь работает все еще так, как раньше. Ее теплое дыхание теряется в его волосах, согревая голову.
- Каждый день это было одинаково, Малдер. Одинаково больно.
Он поднимает лицо, и она ясно видит тоску и мольбу о прощении в его взгляде и поспешно прижимает его голову обратно, к своему плечу, будто укрывая его от той боли, что выплеснулась вместе с ее словами. Никогда раньше она не позволила бы этим словам достигнуть поверхности сердца, вырваться из ее груди, но теперь, когда все изменилось, внезапно утратили свое значение все условности и законы придуманного людьми мира, не было препятствий, чтобы сказать их.
- Я просыпалась, потому что просыпался Уильям, и засыпала, потому что мои силы были нужны ему. Я не знаю, сколько бы еще выдержала так. Но потом, когда… это случилось…
Ее руки крепче сжимаются вокруг него. Он прячет лицо на ее плече и беззвучно вздрагивает. Ее пальцы скользят по его растрепанным волосам, а губы следуют за ними.
Неожиданно он резко встает, не отпуская ее из своих рук, поворачивает лицом к себе, так, что через мгновение она вновь оказывается сидящей на его коленях закутанной в одеяло и крепко обвивающей его подобно гибкому тонкому стволу лианы, обернутому вокруг ствола дерева. Малдер что-то шепчет, но она не может расслышать его бормотания, спрятав лицо в изгибе его шеи и плеча.
- Я даже не знала, жив ли ты…
- Я искал тебя. - Его рука движется вверх по ее спине в необходимом им обоим прикосновении. Это больше, чем ласка. Это инстинктивная потребность, рожденная памятью.
Возвращение.
- Не оставалось ничего, Малдер, - шептала она. - Только пожары, паника и смерть. Все бежали куда-то, и город стал общей могилой…. Я тоже бежала. Я должна была выбраться и найти тебя. Я не помню, в каком направлении шла и как долго, тогда все превратилось в огромный мелькающий калейдоскоп.
Она умолкает, свернувшись на его коленях, в укрытии из старого шерстяного одеяла и его рук, чувствуя окутавшее ее дремотное тепло: тепло одежды и Малдера. Малдер всегда был теплым, а его золотисто-коричневое тело - лучшим убежищем для нее. Он поднимает голову, зарывается носом в волосы на ее виске и бормочет:
- Что было дальше?
Усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы проглотить комок, внезапно закупоривший горло, было должным образом вознаграждено отсутствием дрожи в ее голосе.
- Когда я очнулась, я была в машине, которая ехала сюда. Там были люди, забравшие меня. Мы не знали, что происходит, все радиостанции прекратили вещание через полчаса после… после того, как началось все это, и в эфире была тишина. Дороги тоже были пустынны, и непонятно, остался ли в живых кто-то, кроме нас. Надо было найти убежище…. Среди нас было двое военных, когда-то служивших на базе в этих горах. Так мы нашли это место.
- А где остальные?
Тон ее голоса был начисто лишен эмоций, когда она заговорила о событиях, прежде пережитых ею как горе.
- Мы были плохо знакомы с пустыней. Жара, холод, обезвоживание, ядовитые рептилии и насекомые. - Она молчала о том, что каждую ночь спала сидя, прислонившись к какой-нибудь нависшей над тропой скале, одной рукой баюкая сына, а в другой держа пистолет. Она не рассказала о том, как утром беспощадное солнце будило их, и у того, кто никогда больше не открывал утомленных век, снимали с пояса флягу с водой, отдавая ей и ребенку. Он не знал, что двое умерли ночью в то время, как лагерь был разбит всего в двухстах метрах от маленького озера. Она не говорила, но сейчас она проходила этот путь снова в одиночестве ночей и кошмарах, крадущих ее короткие сны, проходит все: день за днем, ночь за ночью, смерть за смертью, шрам за шрамом.
- Скалли, - шепчет он, скользя кончиками пальцев по ее гладкой щеке.
Мерцающая синева ее глаз встречается с его карими зрачками, согревающими ее зелеными отсветами, вспыхивающими и гаснущими крошечными огоньками в глубине. Она видит там сопереживание, сожаление о том, что его не было рядом, когда она так отчаянно нуждалась в его присутствии, и он безмолвно просит прощения за каждый такой момент в течение всей их жизни.
Их жизни.
Эта мысль неожиданно поражает их обоих, словно внезапный рассвет, и впервые за несколько часов, что они видят, слышат и чувствуют друг друга, ощущение того, что они снова вместе захлестывает, словно прилив, наполняя каждую клеточку и каждый кровеносный сосуд.
Дана видит, как уголки его губ приподнимаются, тут же возвращаясь в исходное положение, как если бы он пробовал давным-давно позабытое движение. А затем он вдруг улыбается необыкновенно тепло и счастливо. Улыбка приходит как летний ливень: мощный теплый поток, не оставляющий сомнений в своем существовании в отличие от долгих гроз, выбирающих момент, когда и куда пролить небесную влагу, так, что вы можете слышать долгий рокот грома, но ни одна капля не упадет на землю и у вас под ногами.
Пальцы Малдера скользят через ее волосы, когда он берет ее лицо в свои ладони, впитывая каждую ее черточку, изучая те изменения, что он видел. Ее кожа больше не была сливочно-белой. Здешнее солнце и ветер опалили ее, оставив ожоги, словно печать. Ее веснушки стали ярче, и Малдер улыбнулся, с любовью касаясь кончиком пальца множество коричневых звездочек на ее тонком носу. Его ладонь согрело ее дыханием, когда она пробормотала, закрыв глаза:
- Я знаю, это ужасно выглядит.
- Это прекрасно, - тихо возразил он, лаская ее родинку - маленькую точку из коричневого бархата сантиметром выше ее губ.
Она была прекрасна для него вся, каждая крошечная частица ее тела и души, независимо от того, насколько изменилась ее кожа.
В то время, как он открыто и беспрепятственно изучал изменения, произошедшие с ней, выуживая из памяти сотни маленьких подробностей о каждой ее веснушке, Скалли любовалась им.
Его кожа из смуглой превратилась в бронзовую, впитав щедрое здешнее солнце, но янтарно-зеленые глаза были все те же, что она знала. Ее пальцы остановились на его твердых скулах, и его щетина безжалостно царапала ее ладони. Кончики пальцев прочертили легкие волнистые линии вниз, по его шее, упираясь в грудь, обнаженную в расстегнутом вороте его рубашки. Они приподнимались и опускались вместе с барельефом его груди в такт его вдохам и выдохам, и это успокаивающее колебание баюкало их обоих.
Будто слепые, они изучают друг друга руками, возвращая воспоминания и самих себя из всех скрытых и захороненных разлукой и страданиями уголков. Но эти прикосновения не жадны, не порывисты и ненасытны, они нежны, осторожны, благоговейны.
Слов больше не было, они не нуждались в словах, говоря глазами и вездесущими пальцами, стремясь покрыть короткими минутами годы невыносимой разлуки.
Он слышит свое имя, срывающееся во внезапном судорожном вздохе с ее губ, когда он крепко трется лицом о ее шею и замирает там. Он дома! О, Господи, он дома!
- Малдер…
- Шшш.
Теплый ветерок его дыхания обволакивает ее шею, скатываясь на грудь, в то время как его губы прокладывают тропинку легких поцелуев вверх, к ее подбородку до тех пор, пока не останавливаются напротив ее губ. Его глаза безмолвно просят разрешения прикоснуться, терпеливо ища ответ в темно-синих волнах ее глаз. Скалли отвечает почти незаметным движением навстречу ему, которое невозможно увидеть, но которое он чувствует каждой мышцей, оплетенной ее телом. Требуется несколько секунд, чтобы движение стало уверенным, видимым и взаимным, и, приближаясь, они интуитивно находят точку соприкосновения.
Его губы, обожженные и потрескавшиеся, встречаются с ее нежными шелковыми лепестками. Они пробуют друг друга с медлительной страстью, вспоминая вкус их поцелуя и каждое движение и вдох, зажигающие тысячи искр во внезапно пробужденных сплетенных, слитых в одно целое телах.
Возвращение.
Внезапно Скалли отталкивает его, упираясь в его плечи. В первую секунду, охваченный непониманием и страхом, Малдер крепко стискивает ее в объятиях, но она сопротивляется все упорнее, пока наконец он не отпускает ее.
- Скалли…
Обернувшись в смятении, он видит, как она исчезает в хижине. Неосознанно он растирает ладонью левую сторону груди, пытаясь избавиться от внезапно накатившей режущей боли. Удушье схватывает горло, останавливая горечь бранных слов. Опустошенный, он сжимается в комок, утыкаясь лицом в ладони, и замирает.
Не сразу он замечает, что к звукам пустыни примешивается какой-то посторонний шум, но через секунду приходит понимание - плач ребенка. В момент, когда эта мысль достигает его сознания, он впивается зубами в мякоть ладони, смеясь и плача одновременно. Успокоившись, Малдер поднимает голову, и обводит взглядом окружающую пустыню. Отсвет близкого костра падает на складки скал. Там тихо, люди спят после утомительного дневного перехода. Кажется, что во всем огромном мире царит спокойствие и безмятежность подобная той, что воцаряется в этой пустыне с заходом солнца, кажется нереальным, невообразимым болезни, горе, мучения, смерть и страх, властвующие на Земле. Но эта мысль появляется лишь на секунду. И те, кто спят у костра, и те, кто бодрствует, охраняя этот короткий, вполглаза сон помнят о боли и опасности каждую минуту.
Малдер потирает плечи, спасаясь от охватившего его озноба, и, подхватив одеяло, заходит в дом. Он останавливается в дверях, наблюдая силуэт Скалли, облитый лунным светом, беспрепятственно проникающим через окно. Она поднимает голову и смущенно улыбается, подходя ближе.
Ребенок в ее руках спокойно спит. Осторожно Малдер касается пальцем пухлых кулачков, прижатых к маленькому животику, чувствуя тепло и гладкость детской кожи. Он не может взять его на руки, опасаясь, что малыш проснется, только вот так любоваться им, позволяя легкое бережное прикосновение.
Скалли прикусывает губу, вспоминая тот первый раз, когда Малдер держал сына в руках, так уверенно, словно был готов к этому, в то время как она ожидала неуверенности и робости. Сейчас она не может дать ему этого. Уильям был напуган сегодня днем, он уже давно не видел людей, кроме мамы, конечно, и присутствие чужаков его пугает.
- Скалли.
Она видит его восхищенную улыбку. Он мягко прижимается губами к ее лбу, и, склонившись, опускает такой же нежный поцелуй на лоб Уильяма.
Она укладывает малыша на постель и отходит к окну, не оборачиваясь. Малдер следует за ней. Две тени переплетаются в темноте, когда он привычно кладет подбородок на ее макушку шепчет:
- В чем дело?
- Я просто подумала, - трудное начало, - о завтрашнем дне.
Он внутренне вздрагивает от невыносимой тоски и отчаяния в ее голосе, когда она шепчет:
- Как мы будем без тебя теперь, Малдер?
Она оборачивается и обнимает его так крепко, насколько требует вся сила ее отчаяния. Справившись с болью, он приподнимает ее лицо в своих ладонях, заставляя посмотреть на него сквозь кристаллики слез.
- Вы никогда не будете без меня, Скалли. - И он снова прижимает ее к себе, тихо повторяя "никогда" бесконечное множество раз.
Как бы далеко они ни были. Что бы ни разъединяло их.
- Никогда, - вторит она, словно эхо.
Его теплые руки покидают ее плечи, чтобы проследовать вниз, по ее рукам, до тех пор, пока их пальцы ни оказываются переплетенными. Малдер склоняется голову, глядя на ее ладони, маленькие тонкие, лежащие в его больших темных от загара руках. Его длинные сильные пальцы мягко поглаживают ее кожу, пускаясь в обратный путь, наверх, по изящному запястью, потом выше, до локтя, и, наконец, трогают бицепс. В шутку он сжимает ее мышцы, чувствуя их неподатливость.
- Скалли, ты занималась бодибилдингом без меня?
Секунду она удивленно смотрит в его глаза, пока недоумение не уступает место пониманию, и прячет лицо на его плече, шепча:
- Это все вода, Малдер.
Он нежно ерошит волосы на ее затылке, внезапно вспоминая сочные ярко-зеленые стебли кукурузы, столь неуместные посреди выжженной красноватой пустыни. Это ее руки вырастили их, поили эту красную сухую землю.
Он помнил ее руки другими, белыми, нежными, с безупречным маникюром. Они и сейчас не утратили изящества линий, и кожа цвета кофе с молоком казалась прежней молочно-белой, облитая серебристым светом яркой луны. Но Малдер чувствует жесткие бугорки мозолей у оснований ее пальцев, и ногти теперь острижены коротко и небрежно.
Она подняла голову, легшую в его ладони, и его пальцы окунулись в ласкающий их невесомый шелк ее волос. Его вопрос остался без ответа, когда он просто смотрел в ее лицо, облитое лунным светом. Луна отражалась в ее глазах, которые так же неотрывно смотрели на него.
За окном поднялся ветер, легкий, почти невесомый, как дыхание спящего глубоким безмятежным сном, и, казалось, будто струиться, шуршит песок в гигантских часах.
Она привстает на цыпочки и тянется губами к ямочке в основании его горла, там, откуда начинают свой бег плавно выступающие линии ключиц. Он склоняется ей навстречу и чувствует мягкое теплое прикосновение, замирающее на бесконечное число секунд. Они не знают, сколько их проходит прежде чем он понимает, что есть что-то между ее губами и его кожей. Она поднимает голову, встречая его изучающий взгляд, скользящий к кончикам ее пальцев. Они кажутся нежными, тонкие и длинные, в темноте, где властвует лишь лунный свет, незаметны изъяны: царапины, мозоли, грубо остриженные ногти. Он видит ее пальцы как всегда сильными и изящными, способными с равной уверенностью держать скальпель или пистолет, баюкать ребенка и ласкать мужчину. Подушечкой указательного пальца она прижимает к его коже крошечный крестик на короткой цепочке и снова поднимает взгляд.
- Ты всегда со мной. - Его горячие спекшиеся губы касаются ее прохладных век, желая унять жар.
Лунный свет струиться сквозь стекло, бросая голубые отсветы на их кожу и одежду. Луна над пустыней такая яркая, что в ее сиянии теряется свет звезд.
Малдер говорит тихо, ласково, словно рассказывает ребенку сказку на ночь.
- В детстве мы часто смотрели на звезды, ожидая, когда же хоть одна из них упадет, чтобы загадать желание…
Он умолкает, уткнувшись в ее волосы. Она замирает, чувствуя его дыхание, согревающее ее голову, и все так же, не меняя позы, спрашивает шепотом:
- А теперь?
Он вздыхает, взъерошивая этим порывом локоны на ее макушке.
- А теперь, - признается он, - я молю Бога, чтобы звезды оставались на своих местах хотя бы еще одну ночь.
Она поднимает руку к его шее, заставляя его склонить голову и закрыть глаза в ожидании теплоты ее губ и он получает это, но только на краткое мгновение. Одно мягкое дразнящее прикосновение. Малдер замирает и открывает глаза. Видит ее улыбку, и, повинуясь прикосновениям кончиков ее тонких пальцев, вновь опускает веки, но тут же поднимает их. Он хочет смотреть на нее все время, сколько у них осталось.
Она видит в его глазах смешливый озорной огонек. Она тянется к нему и трется носом о его щеку, и от этого жеста, от доверия и нежности, что он излучает, у него перехватывает дыхание. Малдер снова закрывает глаза, а сердце переполняется благодарностью.
И они продолжают свой безмолвный диалог.
Ночью в раскаленной пустыне дует холодный ветер. Он летит межу каньонов и скал, треплет клочья травы, шелестит в ветвях цепкого кустарника.
Они спят на жесткой узенькой койке, так близко друг к другу, насколько это возможно, чтобы оставалось достаточно места для малыша, их сына, что также тихонько посапывает во сне. Его маленькие ручки и ножки раскинуты и упираются в папу и маму. Прохладный ветер, струящийся в приоткрытую дверь, перебирает растрепанные волосы Малдера.
©, Нелюбова А.А., 01.09.02
"Любовь и надежда - величайшие дары в мире"
"Гимн Рождества"
Ф. Спир
назад
------------------------
|