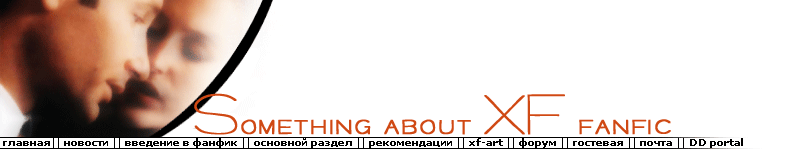
ГАЛАТЕЯ ТВОРЯЩАЯ
Когда-то я видела сны наяву. А теперь они даже ночью меня не посещают. Когда-то я жила в большом городе, в стране, где миллионы людей вставали с утра по будильнику и, проклиная утренние пробки, мчались к своим офисам. И у меня была работа, на которую надо было спешить, начальство, перед которым надо отчитываться, дело, которое надо было делать. Я жила в квартире, не слишком надежной в плане безопасности, но в некотором смысле уютной и привычной. У меня были друзья, которые иногда звонили мне, и родные, которым иногда звонила я. Я жила, стараясь не оглядываться на пройденный путь и не заглядывать далеко в будущее. Я не считала свою жизнь напрасной или неудавшейся, хотя, наверное, это было самонадеянно с моей стороны. Я теряла друзей и близких, о да, самых близких людей. Я пережила многих своих врагов из тех, для кого не существует невозможного. Я спасла много жизней и не считала, сколько погубила. Я принимала удары и радости как должное, я научилась просто жить, без всяких уточнений. Я думала, что так будет всегда. Что бы ни было, считала я, ничто не в силах переменить мою сущность, мою личность, мое Я. Возможно, я не так уж ошибалась. Просто в один день, который трудно назвать прекрасным, все изменилось, и изменилось необратимо. Моя жизнь, перед которой нельзя было поставить ни знака плюс, ни знака минус, покинула меня, а взамен мне была дана другая. Но я не уверена, что та, у которой отняли, и та, которой дали, это одна и та же я. Я больше ни в чем не уверена. Все закончилось там же, где когда-то началось: в Орегоне. Для меня все началось именно там, а спустя семь лет оказалось, что я не испытываю ностальгии по этому месту. С того самого момента, когда в офисе моего напарника зазвонил телефон и Билли Майлз попросил нас помочь, все пошло не так. Я знала, что нам не следовало ехать. Малдер все эти годы знал, что они здесь, и точно так же я знала, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Мы не должны, мы ни за что не должны были ехать в Орегон снова. Но мы поехали. Все, что произошло потом, я вспоминаю довольно смутно. Я никогда больше не видела Малдера, я никогда не видела и того, что он оставил после себя. Кого он оставил. Я помню, как раздражала меня заботливая опека друзей, не подпускавших ко мне желанное одиночество. Скиннер, Доггетт, Рейес, ребята из «Одинокого Стрелка» - они все были рядом, неотлучно наблюдая за мной. Они были рядом, когда все началось. Колонизация. Я не знаю точно, как Малдер себе все это представлял, но едва ли это соответствовало его ожиданиям. Агентство по чрезвычайным ситуациям не ввело в стране режим чрезвычайного положения и не заменило собой правительство. Оно просто не успело этого сделать. И я помню, что Соединенные Штаты не были единственным государством на Земле. Но никто не успел, вот в чем штука. Мы подверглись столь массированной атаке, что в течение двух дней из шести миллиардов людей на планете осталось около двадцати миллионов. Исчезла энергия. Мировые запасы нефти оказались опустошены в одно мгновение. Больше не было электричества. По правде сказать, ничего больше не было. Ландшафты пострадали лишь частично: даже инопланетные существа не станут гадить в доме, в котором намереваются жить. Но у них не вышло. Пока они нападали на нас, другие напали на них и победили. Этим новым не было до нас дела. Они отчалили, оставив нас один на один с регрессом и деградацией. Возможно, они посчитали, что мы вскоре сами вымрем как динозавры. Люди, мечтавшие о единой Земле, могли бы радоваться, если бы их мечты не были искажены самым изощренным образом. Не было никакого единого правительства. На Земле вообще больше не было ни одного правительства, ни одного государства. Никаких законов. Нас осталось так мало, что осознание единой судьбы разом поставило нас выше вопросов власти и подчинения. Очевидно, это не продлится долго, и как только человечество расплодится, все вернется на круги своя. Я говорила, что мы лишились энергии? Транспорта больше не существовало. Без топлива и электричества суда и поезда превратились в бесполезные железные коробки, способные защитить от дождя, но не от холода. Естественным образом остатки человечества предпочли откочевать куда-нибудь поближе к экватору. Никакой связи между континентами. Две Америки, Евразия с Африкой и Австралия варятся теперь в собственном соку. Никто не знает, что случилось с теми, кто в момент атаки находился на полярных станциях. Вряд ли мы когда-нибудь о них услышим. Как бы мало нас ни осталось, мы не привыкли жить по одному. Большие города, пострадавшие сильнее других, в большинстве своем были покинуты, жить там стало невозможно. Небольшие поселения стали основной административно-территориальной единицей. Сотня, три сотни, тысяча, две – такое количество людей было способно организовать жизнедеятельность на основе местного самоуправления. Общины, в которых насчитывалось до шести тысяч человек, были редкостью, но они существовали. Оглядываясь назад, я вижу себя, растерянную, пробужденную от своих эгоистических страданий грозным набатом Колонизации. Что спасло мою жизнь? Мое безразличие к собственной судьбе и мои друзья. Это Скиннер вытащил меня из-под завалов, в которые превратилась больница Джорджтаун Мемориал. Он бросился мне на помощь, хотя его подруга, вероятно, нуждалась в нем не меньше. Он никогда не заговаривал со мной о ней, а я не спрашивала. Он не дал мне пропасть и умереть с голоду в первый месяц всеобщего беспамятства и глухой тоски. В час волка. В этот странный, но в то же время естественный момент решалась наша судьба. ФБР больше не существовало, как не существовало и государства, о гражданах которого надо было беспокоиться, но мы чувствовали свою ответственность перед ними. Из всех людей – мы двое остро чувствовали, что часть вины за случившееся лежит и на нас. Что бы ни происходило со мной раньше, только в те черные дни я впервые поняла всю глубину слова «отчаяние». Я врач. Но я не могла стать тем, кто исцелит наш мир от величайшего недуга в истории. Я и не замахивалась на такое. Я пыталась помочь, но я немногое могла сделать, когда не было элементарных инструментов, лекарств, даже бинтов. Я была бессильна спасти тех, кто смотрел на меня с надеждой. Я врач, я давала клятву Гиппократа. Но я не была в состоянии выполнять ее, после того, как на землю пала ночь. Мне, как и многим другим, казалось, что жить незачем, но я была нужна тем, кто не сдался и не хотел умирать. Я была нужна им. Долг стал стимулом к продолжению собственного существования. За исключением Скиннера у меня не осталось никого. О судьбе моих братьев мне ничего неизвестно. Дом моей матери превратился в руины, как и весь ее квартал. Я знаю, что она была дома, я разговаривала с ней по телефону в тот момент, когда небеса разверзлись. Может быть, так лучше, мама. Не думаю, что тебе понравился бы мир, в котором нам теперь предстоит жить. Прости, мама. Та часть меня, что любила тебя, умерла вместе с тобой. Боль этой утраты – последнее, что я сумела ощутить в своем сердце. Я больше ничего не чувствую. Прости, мама, и прощай. Скиннер добыл нам лошадь и соорудил повозку из автомобильного прицепа. Когда мы покидали город, мне вспомнилась сцена из «Унесенных ветром», когда Ретт Батлер и Скарлет уезжали из горящей Атланты. Студия «XX century Fox» сожгла целый склад декораций, чтобы снять этот момент. Столько усилий ради такой малости, доставшейся нам даром. Мы нигде не останавливались надолго. Ехали от поселка к поселку, помогали раненым чем могли, пополняли припасы и ехали дальше. Мы обзавелись настоящей телегой и превратились в нечто вроде передвижного госпиталя. С нами охотно делились лекарствами и едой и всегда просили остаться. Но мы ехали дальше. Скиннер был у меня на подхвате, я думаю, его познания в деле оказания первой помощи существенно расширились в те дни. По какой-то молчаливой договоренности мы не заговаривали ни о том, что было, ни о том, что с нами будет. Мы решали насущные проблемы и ехали дальше. Я считала, что знаю свою страну. Но мне пришлось узнавать ее заново. Мы переезжали из штата в штат, избегая заброшенных городов и вычерчивая на карте новые пути взамен утраченных. Машины, ставшие вмиг бесполезными жестянками, покинутые дома, опустевшие местности. Но по-настоящему я поняла, как мало нас осталось, когда мы добрались до Кентукки и проехали его насквозь, не встретив ни одного человека. В Канзасе у нас вышла неожиданная остановка. Две сотни поселенцев, среди которых подавляющим большинством были женщины и дети, находились на грани гибели. Они не могли наладить собственный быт, приспособить для своих нужд жилища, наладить производство продуктов. Скиннер и я остались с ними надолго. Он проявил себя настоящим лидером, сумев за несколько месяцев превратить этих людей из напуганной и ничего не соображающей толпы в хорошо организованную общину, которая может себя прокормить и обогреть. Они на него молились. Я знала, к чему все идет, видя, как он день за днем все больше проникается нуждами этих людей, как они становятся ему по-настоящему близкими и родными. Я осознавала, что не имею права возить Скиннера за собой в телеге в качестве ненужного груза, когда он мог остаться и принести реальную пользу этим людям. Свое поселение они назвали Возрожденная Надежда и верили в это название, хотя в стране было много поселков с похожими именами. Некоторым из них не удалось пережить и первую зиму, но другие окрепли и встали на ноги. Я прожила в Возрожденной Надежде долго, но, приняв первые роды, поняла, что пора в путь. Скиннер, конечно, был против. В первый раз он заговорил со мной о прошлой жизни, и я услышала много слов о том, что я и Малдер значили для него и как это для него важно, что я жива и что я с ним. Я знала, что его слова должны были тронуть меня до глубины души, но они не тронули. Не потому, что слова были плохи, а потому что души у меня больше не было. Она осталась где-то там. Где-то там за морем… Бедняга Скиннер был в отчаянии. Он сказал: «Дана, у нас больше нет телефонов и почты, у нас даже чертовых машин больше нет. Ты - все, что у меня осталось. Если ты сейчас уедешь, мы можем больше никогда не встретиться. Оставайся, ты нужна этим людям. Ты нужна нам. Я не могу бросить их, но я и тебя отпустить не могу». И еще он сказал: «Нет никакой надежды, что он выжил, что он где-то здесь». Я вздрогнула. Я забыла упомянуть о другой важной составляющей своего существования. Я ищу Малдера. На простой вопрос «Чем вы занимаетесь?» люди отвечают «Я плотник», или «Я строитель», или «Я фермер». Я отвечала: «Я врач и я ищу Малдера». Это моя новая профессия – искать Малдера. Я ее создала. Она от меня неотделима. Я единственный в мире специалист. По правде говоря, я не знаю, зачем я его ищу. Может быть, состояние поиска просто превратилось для меня в привычку. Много лет мы искали истину, и теперь, когда она свалилась нам на голову, мне надо искать что-нибудь еще, чтобы продолжать жить. Если акула останавливается, она умирает. Я не могу умереть, потому что я врач и нужна людям. Значит, я не могу остановиться. Я сказала Скиннеру, что если бы я могла что-то чувствовать, я бы любила его. Я знаю, что он для меня сделал, и знаю, на что он ради этого пошел. Да, я любила бы тебя, Уолтер, если бы у меня была душа. Ты прав, телефонов больше нет, но карты остались, и я знаю теперь, где тебя искать. Я обещаю, что буду приезжать иногда тебя проведать. Ведь ты осколок моей прежней жизни, и этого никто не отменит, даже если я больше не способна чувствовать. Он обнял меня и заплакал. Я в первый раз видела, как Скиннер плачет. Он больше не был застегнутым на все пуговицы боссом в строгом костюме. Он был мужчиной, который не хотел сдаваться. Который не хотел, чтобы я сдавалась. Для него я оставалась единственным человеком, который знал, кем он был раньше и каким он был. Он боялся утратить эту память. Мы все изменились, и пути назад не было. Прости, Уолтер. Я отправилась дальше одна, уехав из Возрожденной Надежды до восхода солнца. Я не хотела, чтобы кто-нибудь смотрел мне в спину. Какое-то время я была одна. Я знаю, Скиннер боялся, что с одинокой женщиной всякое может случиться, но в людях, переживших конец света, еще не проснулись их жестокие инстинкты. К тому же мое оружие было при мне, и я была уверена, что смогу постоять за себя. Но меня никто не обижал. Обычно, стоило мне куда-нибудь приехать, люди начинали с вожделением присматриваться к моей лошади. Дефицит федерального бюджета уступил место дефициту тягловой силы. Но узнав, чем я занимаюсь, меня никто и пальцем не трогал. Наоборот, обычно все стремились помочь. Через полгода я оказалась в Вайоминге и там, остановившись посмотреть на первый на новой Земле праздник урожая, я неожиданно увидела знакомое лицо. Сначала я подумала, что брежу, что схожу с ума, но это действительно был он, все такой же высокий с пронзительными синими глазами. Он обернулся, увидел меня и замер, не в силах пошевелиться. Его глаза вспыхнули, а на губах засияла сумасшедшая улыбка, а я вдруг заметила, что правой руки у него нет. И тогда я заплакала. В первый раз после того, как все случилось. Я просто стояла возле своей лошади, беспомощно глядя на факельное шествие, и чувствовала, как слезы текут по моему лицу. Он пробирался ко мне сквозь толпу и наконец оказался прямо передо мной. «Скалли». От избытка чувств он задохнулся, и я неожиданно для себя бросилась ему на шею, чуть не свалив нас обоих с ног. Вокруг нас пели и плясали люди. Кто бы мог подумать, что я буду радоваться Доггетту. А я была рада, очень рада его видеть. Он находился в Гувер-билдинг, когда все началось, и еле успел выбраться наружу. Он лишился руки и едва не умер от потери крови. От него я узнала, что Керш погиб в первой же волне атаки, что мертва Джоанна Кэссиди, Роберт Хауэлл и многие-многие другие наши сослуживцы. «А Моника?», спросила я, не надеясь на ответ. Моника Рейес помогала нам искать Малдера в той, прошлой жизни. Монике я была обязана больше, чем жизнью, но я избегала об этом думать. В его глазах мелькнуло отчаяние, и он покачал головой. Я утешила его новостями о Скиннере. Некоторое время я прожила в этой общине, располагавшейся неподалеку от Шайенн, и люди, как всегда, шли ко мне за помощью, хотя в этом поселке я впервые встретилась со своим коллегой. Дориан Риттерспун был когда-то дантистом в дорогой частной клинике. После Дня Х ему пришлось вспомнить, что он вообще-то врач. Первые дни после встречи Доггетт ни на шаг от меня не отходил, словно боялся, что я вот-вот исчезну. Он то и дело дотрагивался до меня, брал за руку, прикасался к волосам, будто не верил до конца, что я материальна, что это не плод его воображения. Я привыкла к тому, что мир изменился, но все же отсутствие каких бы то ни было барьеров там, где раньше была стена, иногда меня удивляло. Я знаю, что Джон любил меня, по-своему, да, но любил очень сильно. И там, в прошлой жизни, и теперь. Тогда, не будучи ничем мне обязан, он вместе со мной занимался поисками Малдера – делом столь же безнадежным, сколь и болезненным для карьеры. Он предложил помощь и сейчас. Когда он узнал, что я все еще ищу его, в его глазах промелькнула вспышка боли, но он не сказал мне, подобно Скиннеру, что надежды нет. Мне кажется, он лучше, чем Уолтер, понял мое состояние поиска. И он, конечно, не хотел отпускать меня одну. Я рассказала ему о Возрожденной Надежде, о том, как там нужны крепкие мужские руки, пусть даже у него осталась одна. Я вычертила на его карте маршрут и сказала, что это единственное место, куда я планирую возвращаться время от времени. Забрав карту, он ушел и не сказал мне в тот вечер ни слова. «Я не знаю, как нам удалось найти друг друга, - были первые его слова, когда он застал меня за сборами утром, - но теперь, увидев тебя, зная, что ты жива, мне невыносима мысль о том, что мы больше не увидимся. Мы не должны терять друг друга, Скалли, я многое могу вынести, но только не это». Я вздохнула. Прощаться с Джоном было очень тяжело, мы долго спорили. Прежде он никогда не повышал на меня голос, теперь же кричал на меня, призывая одуматься, остановиться. Но я не могла остановиться. Он заплакал от отчаяния, и от этого зрелища мне стало тошно. Доггетт, которого я знала, никогда не плакал. Кажется, я не все оставила в прошлой жизни, способность причинять людям боль сохранилась в неприкосновенности. Я обняла его, и он прижался ко мне, словно ребенок к матери в поисках убежища. Я люблю тебя, Джон, сказала я, пропуская его волосы сквозь пальцы. Я очень тебя люблю, но я не могу остановиться, пойми. Я буду искать его, пока дышу, пока мои ноги в состоянии шагать по земле, а глаза видеть. Я знаю, ты поймешь меня. Он кивнул, неловко поцеловал меня, и мы расстались. Он отправился в Возрожденную Надежду, и я бы солгала, если бы сказала, что на мгновение мне не захотелось пойти с ним. Захотелось. Но он скрылся за поворотом, и беспросветная апатия вновь навалилась на меня. Той Даны Скалли, которую так хорошо знали ее друзья, больше не существовало. У меня сохранились смутные воспоминания о ней. Я помню жизнерадостную студентку, обожавшую проводить время с приятелями, поболтать о парнях со старшей сестрой, увлеченно писавшую свой диплом и ожидавшую от жизни только хорошего. Я помню молодую, уверенную в себе женщину в деловом костюме, переступившую порог офиса в подвале штаб-квартиры ФБР. Она занималась наукой, многое знала о природе этого мира, а желала узнать еще больше, и твердо верила в то, что всему на свете существует рациональное объяснение. Я помню женщину, которая, пройдя сквозь множество испытаний, посвятила свою жизнь одному человеку, которому была предана несмотря ни на что. Ее разум и его вера, и вечный танец отношений на грани фола. Она его любила больше, о, гораздо больше жизни. А потом она его потеряла. И эту одинокую в своем горе женщину я тоже помню. Я помню их всех. Но я не могу примерить их чувства, их эмоции, их видение мира на себя. Я знаю, что когда-то была всеми этими женщинами, но поверить в это не могу. Я помню их, словно героинь какого-то фильма. Им сочувствуешь, но в их существование не веришь. Дана – Дана Скалли – доктор Скалли – агент Скалли – Скалли – Дана. Круг замкнулся, но я не вернулась в начало пути. Я признаю, что все те Даны и я когда-то были единым целым, но теперь они все ушли, как и положено в конце фильма, а я осталась одна. Я не сожалела об их уходе. У меня было дело, и не было времени на воспоминания. Вообще-то у меня было не так уж много настоящей врачебной практики. Но у парнишки, которого я подобрала по дороге, ее было еще меньше. По иронии судьбы его звали Джон, и было ему всего лишь восемнадцать лет, а на вид еще меньше. Джонни только-только закончил школу и учился на мед брата, когда все случилось. Он остался один-одинешенек без семьи и друзей и без цели в жизни. Мы встретились неподалеку от Миннеаполиса, в поселке под названием Новый Мир. Джонни робко подошел ко мне, когда я осматривала женщину, мучимую жестоким кашлем, и предложил помощь. Он был хрупкого телосложения, очень бледный, с копной кудрявых каштановых волос. Оказывается, все это время он страдал из-за того, что обладает хоть какими-то медицинскими знаниями, но боится их применить. Он смотрел на меня как преданный щенок смотрит на хозяина, и я разрешила ему ехать со мной. Теперь в нашем передвижном госпитале было два человека. По правде говоря, от Джонни поначалу было мало толка. Но он очень старался, и через какое-то время я начала его учить. Я сказала: придется тебе стать врачом, дружок, если больше никого не осталось. Он ужаснулся самой идее, но постепенно привык к этой мысли. У меня появился не только помощник, но и студент. Какая ирония, однако. Джонни оказался внимательным слушателем. Беда была только в том, что врач – это не та профессия, которой можно овладеть, просто слушая кого-то. Я рисовала для него схемы и диаграммы на клочках бумаги, на земле, угольком на коре деревьев. Использовала свое и его тело как анатомическое пособие. Я припоминала основы фармакологии, делая упор на лекарственных растениях. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день у меня не будет возможности заглянуть в ноутбук или медицинский справочник, чтобы узнать действие того или иного вещества. Эти крохи Джонни впитывал как губка. Он задавал миллион вопросов. Неведомо каким образом он пытался удержать в своей голове поток информации, которым легко было делиться, но не запоминать. Джонни старался. Тем более что недостатка в практических занятиях у нас не было. Постоянные разговоры о медицине отвлекали нас от насущных проблем. В окрестностях великих озер мы сбились с пути, а может, нам просто не везло. Так или иначе, мы довольно долго ехали, не встречая человеческого жилья. Наши запасы пищи истощались, и это тревожило. До этого голод был частым, но недолгим гостем у нашего костра, теперь же месяц полуголодной жизни подходил к концу. Мне это не причиняло особенных страданий, потеря аппетита стала моим спутником задолго до Дня Х. Но растущему организму молодого человека было непонятно, почему его держат на голодном пайке. «Две банки тушенки и немного кукурузы, вот и все, что у нас осталось», - резюмировала я как-то вечером. Джонни оторвался от созерцания огня и посмотрел на меня. «Если на третий день никого не встретим, придется тебе меня съесть, - добавила я. – Правда, я в последнее время немного похудела…» Он не улыбнулся. Улыбнулась я. Воспоминанию. В тот миг у костра я вдруг отчетливо поняла, что это все, что у меня осталось. Воспоминания. Никогда мне больше не встретить Малдера, не увидеть его улыбку. Никогда больше мы с ним не потопим лодку и не окажемся на крохотном островке посреди озера, темного, как сама ночь… И он не будет больше, дрожа от холода, пытаться ободрить меня немудреной шуткой и цитатами из «Моби Дика». Моя память – мой вечный бич. Я не заметила, как уронила голову на руки и заплакала. Я плакала оттого, что хотела произнести его имя вслух и не могла. Сколько раз за свою жизнь я произносила его? Тысячи? Миллионы? Миллиарды миллионов раз мои губы и гортань воспроизводили нехитрый набор звуков, складывавшихся в его имя. Я звала его, когда мне было больно. Звала, предупреждая об опасности. Я выговаривала его имя, кипя от возмущения или заливаясь смехом. Которому он был причиной. Боже мой. Я столько раз произносила его имя, просто чтобы привлечь его внимание… Неужели когда-то я могла позволить себе такую роскошь? Я совсем забыла о Джонни. Увидев, что я плачу, он перепугался, подскочил ко мне, неловко похлопал по плечу, думая, что мои слезы вызваны нашим бедственным положением. Извлек откуда-то деревяшку, с которой возился несколько дней, и я увидела, что он смастерил лук. «Я неплохо стреляю, доктор Скалли. А здесь водится кое-какая дичь. Я просто давно не упражнялся, но я могу пойти сейчас…» Я посмотрела на нелепый самодельный лук в его руках, потом на его испуганное лицо и не выдержала – засмеялась. «Джонни, - сквозь смех выговорила я, пытаясь взять себя в руки. Мальчик и так был напуган до смерти. – Джонни, иди спать. Мы справимся, мы найдем еду, обещаю. Иди спать, ради Бога. Не хватало, чтобы ты ночью бродил по лесу с этой штукой». Кажется, мой смех задел его. Он устраивался на ночлег с обиженной миной, все еще настороженно поглядывая на меня. Я вздохнула. Приступы беспричинной грусти и веселья не доведут до добра. Если я хочу, чтобы наш госпиталь продолжил свое существование, мне нужно немедленно прекратить думать о том, что может вызвать то и другое. Мне надо прекратить думать о Малдере. Совсем. Навсегда. К сожалению, я не могу этого сделать. Наутро оказалось, что я зря смеялась над Джонни. Меня разбудил самый невероятный в наших нынешних условиях запах – запах жареного мяса. Открыв глаза, я с изумлением увидела Джонни, протягивавшего мне ароматный дымящийся кусок, нанизанный на ветку. Это было настолько невероятно, что от неожиданности я поперхнулась и закашлялась. «Очень повезло, - как ни в чем не бывало произнес Джонни, улыбаясь с видом победителя. – Подкараулил двух зайцев вон на той прогалине. А может быть, это были кролики. Вы так устали, я не хотел будить вас». «Но как же ты?..» - я, наконец, взяла у него из рук палочку. «У нас был спортивный клуб, - пояснил он, вороша угли. – Стрельба из лука, верховая езда, фехтование… Мы трижды выигрывали соревнования штата, должны были ехать на чемпионат страны, но…» Я только головой покачала. Мясо было жестким и безвкусным, к тому же у нас не было ни грамма соли, но поступок мальчика был настолько трогателен, что я, конечно, промолчала. Благодаря его необычному увлечению, мы не умерли голодной смертью. Не берусь судить, к добру ли. Оказывается, мы сделали большую петлю и оказались в Канаде, выбравшись в окрестности Олбани, когда холодные осенние ветра уже начали дуть нам в спину. На границе со штатом Нью-Йорк располагалось крупное поселение, в котором мы пополнили наши запасы и узнали новости. Удивительно, как наше информационное общество, откатившись далеко за эпоху изобретения телеграфа, умудрялось обмениваться вестями даже теперь. Впору задуматься о достоинствах голубиной почты и телепатических контактов. Утро первого октября выдалось прохладным и солнечным, и мы с Джонни после короткого отдыха тронулись в путь. Наша лошадка бежала бодро и как будто не обнаруживала признаков недовольства жизнью. Джонни вслух повторял расположение внутренних органов, я правила телегой и молчала. Внезапно мы услышали пронзительный женский крик и тотчас же вслед за ним глуховатый мужской. Джонни вздрогнул, перепутав от неожиданности селезенку и поджелудочную, и испуганно посмотрел на меня. Я не успела даже осознать своих действий. Резко натянув вожжи, бросила их Джонни, поспешно соскочила с телеги и, на ходу вытаскивая пистолет с единственной нерастраченной обоймой, побежала в том направлении, откуда раздался крик. Не могу сказать, чтобы мною двигал какой-то разумный стимул, скорее сработал многолетний инстинкт. Ничего себе инстинкты. Обогнув поросший редким кустарником холм, я увидела взмыленного черного жеребца, бившего копытами в опасной близости от сидевшей в пыли светловолосой женщины. Она безуспешно пыталась избавиться от поводьев, обмотавшихся вокруг ее запястья. Жеребец то и дело порывался двигаться, протаскивая ее за собой и затягивая только что распутанный узел. Мужчину, пытавшегося приблизиться к женщине, чтобы помочь, упрямый конь просто не подпускал к ней. Опустившись на колено, я поставила руку в упор и прицелилась, понимая, что у меня всего один шанс. Если я не сумею перебить полоску кожи одной пулей, норовистое животное, скорее всего, бросится вскачь, увлекая за собой незадачливую наездницу. Если бы в тот момент я вспомнила, как давно не брала пистолет в руки и уж тем более не стреляла из него, все было бы кончено. Но я не думала. Я выстрелила. На секунду мне показалось, что я промахнулась. Жеребец с тонким ржанием взвился на дыбы, копыта вспенили воздух возле самой головы перепуганной женщины, не смевшей шелохнуться… А в следующее мгновение конь уже мчался прочь во весь опор, будто на перегонки с ветром. Неосознанно провожая его глазами, я вновь посмотрела на людей, лишь услышав севший от криков голос: «Вы очень вовремя, агент Скалли». Вглядевшись в ее раскрасневшееся лицо, я не поверила своим глазам. Люси Стоунсайфер наконец-то избавилась от обрывков поводьев, едва не ставших причиной ее гибели, и кое-как поднялась на ноги, опираясь на руку… своего напарника, Майкла Кинсли! Это было настолько невероятно, что я никак не могла прийти в себя, по-прежнему стоя на одном колене и сжимая в руке пистолет. Лишь почувствовав руку на своем плече, я обернулась, встретившись глазами с испуганным взглядом Джонни. «Все в порядке, - произнесла я неуверенным тоном, вставая и убирая оружие. – Все хорошо». Кажется, я пыталась себя успокоить. Кинсли и Стоунсайфер тем временем подошли к нам. Одежда Люси была порвана, рука чудовищно покраснела – запястье, судя по всему, было сломано, - лицо и волосы перепачканы пылью, но своего жизнерадостного настроя она не утратила. И Кинсли, насколько я могла судить, ничуть не изменился. Оба разглядывали меня, улыбаясь. «Отличный выстрел, - Кинсли хлопнул меня по плечу с такой силой, что я пошатнулась. – Честное слово, агент Скалли, вас словно само небо послало. Откуда вы взялись?» «Чертова скотина едва меня не убила! – проворчала Люси, осторожно поддерживая поврежденную руку. – Понимаете, агент Скалли, у меня талант к лошадям, я занималась ими с детства и думала, что справлюсь…» «Давайте я посмотрю, - перебила я ее, зная, что если дать ей разговориться, то остановить ее будет трудно. – Похоже на перелом. Джонни, принеси бинт и склянку со спиртом». Пока ничего не понимающий Джонни бегал за бинтом, я успела вкратце объяснить, чем в настоящий момент занимаюсь. Мы усадили Люси на траву, и Майк по моей просьбе отыскал пару ровных плоских палочек. Слушая щебетание Люси, я настойчиво пыталась обнаружить внутри себя хоть крохотный отголосок радости от этой неожиданной встречи. Но его не было. Было только беспокойство, потому что даже обычный перелом может обернуться заражением крови в нынешних условиях. Пока я дезинфицировала ранки и накладывала шину, Люси ненадолго умолкла, шипя и кривясь от боли, и Кинсли успел рассказать мне, что с ними приключилось. Когда началась колонизация, они были на задании в маленьком городке к югу от Денвера. Так и оказались вместе. У Люси были родные в Монтане, и она намеревалась непременно вернуться туда будущим летом, чтобы выяснить, что с ними сталось. У Майка вся семья жила в Нью-Йорке. Он говорил ровным голосом, но его лицо при этих словах странно застыло. Город смело с лица земли, об этом знали все. «Агент Скалли, вы не представляете, как я рада, что мы с Майком оказались вместе, - я закончила перевязку, и Люси приободрилась. – Без него я бы долго не протянула. Я считаю, в будущем нужно непременно сохранить институт партнерства… Ну, во всяких там будущих организациях. Помните, в Бюро нам говорили, что напарник – это тот, кто прикроет вашу спину и обеспечит поддержку? Я думала, что понимаю, что это значит на самом деле, ведь мы посетили столько семинаров по развитию отношений. Но до Дня Х я этого не понимала, как это сказать? Не почувствовала на собственной шкуре». «Она почувствовала это на собственной шкуре, когда я спас ей жизнь», - самодовольно усмехнулся Кинсли. «Я тоже спасла твою жизнь, Майк. Об этом я и говорю. За партнерскими отношениями будущее. Не знаю, как бы я выжила без Майка… Ой, агент Скалли, извините меня. Я… я вовсе не хотела сказать, что…» Она застала меня врасплох. Заслушавшись ее рассуждениями о партнерских отношениях, я через какое-то время перестала улавливать смысл, размышляя о причудливой форме облаков на горизонте. Там было одно большое облако в форме смеющегося лица и несколько легких перистых полосок, чуть подкрашенных лазурью. Я могла бы целый день рассматривать небесный пейзаж, подмечая малейшие изменения форм и размеров, и мне было бы совершенно все равно, кто и что мне в это время говорит. Но когда Стоунсайфер неожиданно начала мямлить и делать незапланированные паузы, мне пришлось вновь обратить на нее внимание. На ее лице было написано смущение, как и на лице ее друга. Джонни слушал ее с живейшим интересом и теперь непонимающе переводил взгляд с одного лица на другое, пытаясь понять, что произошло. Бедная девочка. Она решила, что напомнила мне о моей потере. Конечно, ведь это было до Дня Х. Все в Бюро были в курсе, что Малдер исчез. Большинство, насколько я знаю, сходилось на том, что он исчез в какой-то психиатрической клинике где-нибудь подальше от посторонних глаз. Забавно. Когда-то он сказал мне, что не сможет допросить свидетеля в психиатрической клинике, потому что боится остаться там навсегда. Интересно, что произошло с пациентами психушек, когда началась Колонизация? Неужели среди нас бродят еще более душевнобольные, чем мы? «Агент Скалли?» «С вами все в порядке?» Оказывается, я слишком долго молчала. Заверив их, что со мной все хорошо, я поинтересовалась их дальнейшими планами. А планов у них не было. Они собирались провести зиму где-нибудь на юге с тем, чтобы с приходом весны отправиться на поиски родных Стоунсайфер. Я рассказала им о Возрожденной Надежде, ловя себя на мысли, что это становится уже ритуалом. При известии о Скиннере они пришли в восторг, срисовали с моей карты маршрут и принялись наперебой уговаривать друг друга, что путь до Монтаны из Канзаса будет явно короче, нежели из Пенсильвании. Подливая масла в огонь, я добавила, что Скиннеру очень нужна помощь, а ведь Стоунсайфер и Кинсли как-никак профессионалы. Они принялись обсуждать дорогу и проблемы, с которыми приходится сталкиваться каждому вновь организованному сообществу, и мне подумалось, что Скиннер, возможно, не будет благодарен мне за такое «пополнение». Впрочем, я была уверена, что он обрадуется. Кажется, в Возрожденной Надежде скоро сформируется целая колония бывших сотрудников спецслужб. Мы расстались, когда солнце давно уже перевалило за полдень. Выдержав неизбежную атаку расспросов и уговоров отправиться с ними, я, наконец, вырвалась из цепких объятий Люси, и мы с Джонни вернулись к нашей заброшенной телеге. Он был необычно молчалив, и я поняла, что расспросы на сегодняшний день не закончились. «Значит, вы работали в ФБР, доктор Скалли?» - спросил он, едва мы тронулись в путь. «Джонни, не стоит постоянно величать меня так. Да, работала». «Долго?» «Почти десять лет». «Я думал, вы врач», - мою просьбу держаться попроще он как обычно проигнорировал. «Я врач. Но у меня никогда не было практики. Меня завербовали в Бюро, когда я еще училась». Наш разговор принимал то единственное направление, которого мне всеми силами хотелось избежать. Но я понимала, что рано или поздно эта беседа состоялась бы. Нужно постараться минимизировать последствия. «Эта женщина… Она что-то сказала, и у вас сделалось такое лицо…» «Какое лицо?» - я почувствовала легкое удивление. Я разглядывала облака. Какое у меня могло быть лицо? «Как будто… - Джонни пытался подобрать слова. – Как будто… Как будто вы уже умерли и лежите в могиле, и вам все равно…» Я почувствовала раздражение. «Я умерла, Джонни. В День Х. Мы все умерли в тот день». «Нет, не все, - неожиданно уверенно возразил он, забирая у меня поводья. – И вы вовсе не в тот день такой стали. Вы мне не говорите, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы додуматься. Так бывает, когда теряешь кого-то очень близкого и хочется умереть. Убеждаешь себя в том, что жить больше незачем. Та женщина все говорила о партнерстве… А вы работали в ФБР…» «Джонни, не надо…» «Знаю! Вы потеряли напарника, верно? Он умер, да? А вы его любили?» «Замолчи! – я не могла себя контролировать, я закричала. Джонни дернулся, будто я дала ему пощечину, изумленно уставился на меня. – Ради всего святого, Джонни… замолчи». Мне было трудно дышать. Почувствовав подступающую дурноту, я, не думая, спрыгнула с повозки, коленями в дорожную пыль, и меня вывернуло наизнанку. Я так и стояла на четвереньках в пыли, спазмы сотрясали мое тело, а по лицу текли слезы. Джонни испуганно окликал меня, но я не отвечала. Я не хотела его слышать. Я никого не хотела слышать. Я хотела, чтобы мир прекратил свое существование прямо сейчас. Безумный ненавистный жестокий мир. Это Вселенную вывернуло наизнанку, и она выбросила нас на обочину. Никчемных, ненужных, неспособных жить. В своем диковинном организме, неподвластном нашему восприятию, она сохранила лучших из нас, всех, кто чего-то стоил. А остальные были ею безжалостно отторгнуты и выброшены туда, где им самое место. На обочину. В пыль. Нам не понять, по какому критерию был сделан выбор. Джонни больше не рисковал заговаривать со мной о прежней жизни. После нашей встречи со Стоунсайфер и Кинсли он еще два дня молчал, будто набрал в рот воды. Временами я ловила на себе его задумчивый и какой-то напряженный взгляд, но стоило мне посмотреть на него, как он тут же отводил глаза. На третий день я устроила ему экзамен по внутренним органам, который он успешно завалил, и все стало по-прежнему. По крайней мере внешне. Прошло около десяти месяцев с того момента, как я встретила Джонни и начала его учить, когда в его судьбе наступил своеобразный момент истины. Неожиданно, такие вещи всегда происходят неожиданно. Мы неуклонно двигались на север, точнее, на северо-восток. Необъяснимым образом меня влекло туда, словно стрелку компаса. Приближающаяся зима и простая логика уговаривали повернуть обратно, но это явно было сильнее меня. Должно быть, активизировалась моя вторая ипостась – та, что искала Малдера. Ей почему-то казалось совершенно необходимым доехать до границ страны прежде, чем первый год новой эры канет в Лету. Так что мы ехали на север, несмотря на растущее недоумение Джонни, которое он пока не высказывал вслух, и заметно понижающуюся температуру. Этот поселок, вероятно, был самым последним, самым северным приютом. Он был совсем крошечным: пять двухэтажных домов и несколько тентов, хозяева которых были заняты переездом под суливший защиту от холода гостеприимный кров соседей. Мы подъехали в сумерках, ориентируясь по ярким отблескам трех небольших костров. Еще издали разглядывая их, я ощутила укол тревоги и безнадежности, поднимавшейся вверх вместе с дымом. Тем не менее, продолжать путь в темноте было неразумно да и небезопасно, так что мы свернули к поселку. Пол дюжины мужчин вышло нам навстречу. Самому молодому из них на вид было около тридцати, самому старшему – за шестьдесят. Но несмотря на разницу в возрасте и телосложении, на их лицах застыло одинаковое болезненно-суровое выражение, смягчавшееся разве только беспомощностью их взглядов. Нужно было видеть, как вспыхнули их глаза, едва я сказала, что я врач. Конечно, следовало догадаться сразу. В поселке был тяжелобольной, которому они не могли помочь. Больная. Женщина лет сорока, жена предводителя. В ответ на мой лаконичный вопрос, он рассказал мне, что произошел несчастный случай. Один из самодельных тентов рухнул прошлой ночью под тяжестью воды, собравшейся в складках после недавнего дождя. Опора перебила ей спину, кусок дерева так и остался внутри, никто не решился его вынуть. Мне было непонятно, как ей удалось прожить почти сутки с того момента, однако было очевидно, что какое бы чудо не способствовало этому, его действие заканчивалось, а время истекало. Женщина была без сознания, судя по всему, от болевого шока, однако пульс был относительно ровным, а дыхание стабильным. Попросив Джонни принести все необходимое, я опустила брезентовый полог тента, попросив всех подождать снаружи. Джонни закрепил факел возле стола, на котором лежала женщина. Кажется, он был не в силах оторвать взгляд от ее лица. «Мой руки», - коротко приказала я, вытираясь чистым полотенцем. Он посмотрел на меня испуганно, словно только что заметил мое присутствие. Несколько мгновений ушло на то, чтобы смысл этих слов, проник в его сознание. Его глаза расширились от неприкрытого ужаса. «Вы хотите… хотите, чтобы я…» «Ассистировал мне, да, - я выразительно кивнула головой в сторону рукомойника с подогретой водой. – Мой руки». Сглотнув, он, двигаясь словно робот, принялся намыливать руки. Тем временем, я приблизилась к женщине, лежавшей на животе и невидящим взглядом смотревшей куда-то в брезентовую стену, и, проверив еще раз пульс, осторожно обнажила ее спину. Кусок деревяшки, застрявший пониже поясницы, находился, к счастью, не в самом позвоночнике, иначе несчастная умерла бы уже давно, но все же в опасной близости от него. Под кожей образовалась гематома таких размеров, что, казалось, заполнила собой всю спину, а кожа приобрела багрово-лиловый оттенок. Я подавила вздох. Эту женщину, возможно, спас бы опытный хирург, оперировавший в идеальных условиях современной клиники. Впрочем, слово «современной» явно лишнее в этом ряду, ибо уже не соответствует действительности. Современная медицина располагает лишь топорными методами и искусством из арсенала раннего Средневековья. И эта так называемая медицина, представителем которой я являюсь, - единственный шанс этой женщины. Видимо, дела у людей действительно плохи, если они возлагают свои последние надежды на меня. «Подойди с другой стороны, - негромко обратилась я к Джонни, все еще заторможенному от неотвратимо приближавшейся перспективы. – Когда я извлеку это полено, приготовься убрать застоявшуюся кровь, чтобы мы смогли найти перебитые артерии». Он побледнел, лицо слегка позеленело. Я покачала головой. Не хватало, чтобы мальчишка грохнулся в обморок. У меня нет второй пары рук. «Джонни, ты слышал, что я тебе сказала?» «Доктор Скалли, да ведь я… - он поперхнулся. – Я никогда не делал таких операций, даже… даже не присутствовал на них…» Я ощутила в этот момент такую непомерную усталость, что едва не почувствовала горьковатый привкус отчаяния на губах. Едва – потому что отчаяние определенно было слишком сильной для меня эмоцией. «Я тоже». «Что?» Мне захотелось встряхнуть его. «Я тоже. Джонни, я тоже никогда не делала подобных операций. Я знаю о них ровно столько, сколько рассказала тебе. Но кроме нас с тобой, патологоанатома и недоучки, у которого трясутся руки, у этой женщины нет никого, понимаешь? Никого. Поэтому либо возьми себя в руки и помоги мне, либо уходи, чтобы не смотреть, как она умирает». Секунду или две он стоял неподвижно, глядя на меня с мукой. «Зачем ты обрекаешь меня на такое? Зачем заставляешь пройти через это?» - казалось, спрашивали его глаза. Джонни не подозревал, но в этот миг решалась его судьба в том перевернутом с ног на голову мире, в котором мы оказались. Либо он шагнет к столу и станет тем, кто этому миру нужен, либо шагнет к выходу и пополнит ряды неприкаянных и мятущихся душ, которыми наша сузившаяся до размеров разбитого полотна дороги вселенная полна под завязку. Мне было все равно, какой выбор он сделает, лишь бы он решился побыстрее. Джонни решился. Он шагнул к столу. Это была самая тяжелая ночь из всех, что я помню со Дня Х. Тяжелая физически, потому что начиная со второго часа нашего безнадежного предприятия руки и спина онемели от напряжения, так что мне стало казаться, будто злополучная опора обрушилась на меня. Но хуже было другое. Наши мелкие, судорожные попытки спасти жизнь этой женщине заставили зашевелиться то, чего у меня больше не было. То место, где раньше находилась моя душа, принялось ныть тупой болью ампутированной конечности. Спонтанно возникший фантом пытался достучаться до моего сознания, выпуская липкие струйки несуществующего тумана. Слишком слабые, чтобы возвратиться к жизни. Слишком легко заменяемые инстинктами и рефлексами. «Нам удалось», - тихо проговорил Джонни, глядя на творение наших рук. Нам действительно удалось. Очень немногое. Мы извлекли кусок дерева и кое-как привели в порядок тот разгром, который он после себя оставил. Надежда на дезинфекторы была очень слабая, но я не экономила. Женщина так и не пришла в себя, но дышала по-прежнему ровно, и температура, к счастью, не поднималась. Джонни сделал свой выбор, и этой женщине предстояло сделать свой. Сдаться и умереть, как и должно было произойти еще сутки назад, или принять те крохи, что мы могли ей дать, и попытаться выжить. Жить калекой в мире, где и здоровым приходится несладко. Разминая затекшую спину, я вышла навстречу серому рассвету и посеревшим за ночь лицам ее близких. Я хотела объяснить им, что радоваться нечему, но меня никто не слушал. Они все еще верили в то, что любую жизнь нужно обязательно спасти. Они передумают, когда каждая пара рук будет на счету и эта женщина станет для них обузой. Но они бы не поверили мне, если бы я сказала им об этом сейчас. Я бы сама себе не поверила в прежние времена, я помнила это и понимала. Мы уехали через несколько часов, постаравшись улизнуть незаметно. Джонни был слишком слаб от пережитого ночью, чтобы соображать что-либо вообще, так что я манипулировала им без особого труда. Потрясение все еще владело им, но я знала, пройдет какое-то время, и шок сменится робкой уверенностью, первым, еще таким беззащитным осознанием своих сил. Это была искра, которая впервые сверкнула в его глазах, встретивших мой взгляд, когда он понял: все. Это была искра, из которой мне предстояло терпеливо и бережно раздуть ровное, гулкое, согревающее пламя. У Джонни было нечто, чего я была лишена, - энтузиазм и вера в жизнь. И это значило больше моих знаний или опыта. Гораздо больше. Мэн оказался весьма негостеприимен, когда мы наконец въехали в бывшие пределы этого штата. Людских поселений здесь практически не было, лишь несколько отдельных ферм, чьи хозяева отказывались покидать свои дома. Осенние ветра все сильнее давали себя знать, непогода преследовала нас по пятам, заставляя дрожать от холода и сырости. В конце концов, опасаясь, что Джонни подхватит пневмонию и превратится из помощника в пациента, я изменила наш курс. Мы отправлялись обратно, я лишь настояла на том, чтобы мы проехали вдоль побережья. Вид океана стал для меня откровением. Я так давно не видела его, что у меня поневоле захватило дух при виде мерно вздымавшихся и опускавшихся валов, лилово-сизых и обжигающе холодных. Приблизившись во время одной из остановок к самому берегу и ощутив на лице соленые брызги, я внезапно с удивлением почувствовала, как неожиданно сильно забилось сердце. Впервые за долгое время я дышала полной грудью, безучастная к порывам пронизывающего ветра и мрачным быстро плывущим по небу тучам. Стихия, передо мной была стихия, и я наслаждалась ею, упивалась ее грозной, не требующей одобрения красотой. Мне хотелось кричать вместе с чайками, восторженно и надрывно, чтобы в моем голосе, так же, как в их голосах, звучала рвущаяся на свободу боль и тоска, память, не желавшая умирать, и слезы, которых уже не существовало, слезы, оставшиеся там, за гранью, далеко-далеко… «Тебе повезло, что ты истинная дочь своего отца, Скалли». «Что?» «Дочь моряка». Я улыбнулась. Малдер и океан нечасто сходились в моем сознании до этого момента. Хотя между ними, безусловно, было много общего. Сила. Спокойствие. Волнение. Беззащитность. Неприятие контроля или обладания. Тайна. Цвет. Дважды в жизни я видела, как его глаза становились точь-в-точь оттенка этих бурных волн. Первый раз – когда призналась, что видела призрак, предзнаменование скорой смерти. Второй – когда мы прощались перед той, последней его поездкой. Мы поехали дальше, в сторону от океана. Джонни, наверно, опасался, что еще немного – и я брошусь со скалы в ревущие волны. Что ж, в его опасениях был резон, как и в нашем отъезде: надвигался шторм. Поводьями завладел Джонни и начал подгонять лошадь. Думаю, он делал это неосознанно, просто желая как можно скорее убраться с этого места. Через несколько часов, когда океан оповещал о своем присутствии лишь отдаленным гулом, нас нагнал дождь. Небо скрылось за мрачными лиловыми тучами, на горизонте засверкали молнии. Океан не хотел меня отпускать. Ветер крепчал, дуя нам в спину, и грозил лишить нас имущества, нажитого в нелегкой борьбе с гидрой глобальной катастрофы. Пока я пыталась кое-как закрепить над телегой кусок брезента, Джонни все понукал лошадь, которая и так выбивалась из сил. Мы ехали через бесконечное поле, выискивая хоть какое-то укрытие, но, вероятно, ближайшее находилось отсюда за сотню миль. Дождь усиливался, гром грохотал уже непосредственно над нашими головами, видимость ухудшилась до такой степени, что в пяти метрах ничего нельзя было различить. Мы вымокли до нитки, вода заливала глаза, ветер буквально швырял нам в лицо хлесткие ледяные струи. И насколько можно было видеть во время ослепительных вспышек ветвистых молний, никаких признаков возможного убежища поблизости не наблюдалось. Передышка. С отчаянием потянув на себя рвавшийся из рук брезент, я старалась убедить себя, что в моих действиях есть целесообразность. Собственное бессилие перед лицом стихии подсказывало более легкий путь. Сдаться. Пустить все на самотек. Прекратить борьбу. В тот момент, когда руки уже готовы были опуститься, необычайно яркая, осветившая все до самого горизонта, молния ударила совсем близко от нас. Не выдержавшая такого удара лошадь взвилась на дыбы и, обезумев от страха, с пронзительным ржанием понеслась вскачь. От ее резкого рывка я потеряла равновесие, которое и без того с трудом сохраняла на скользкой от воды телеге, и упала навзничь в темноту. Я не знала, сколько прошло времени: одна секунда или часы, прежде чем я пришла в себя все там же, на залитой водой дороге. Разум настойчиво подсказывал не двигаться: упав с такой высоты и скорости, я непременно должна была что-то себе повредить. И хотя я не чувствовала боли, я знала, что тело обязано этим состоянию шока. Тем не менее я начала двигаться: приподнялась на локте, а потом осторожно села. Край грозы продвинулся далеко вперед, вспышки молний сверкали теперь у самого горизонта. В их неверном свете я попыталась осмотреться, но Джонни и телега исчезли бесследно, будто их и не было. Сознание отказывалось предпринимать какие-либо дальнейшие действия, но природа вновь все решила за меня. Сначала что-то больно стукнуло меня по плечу, твердый комок клюнул в спину, затем удары градом посыпались на голову. Град. Каждая градина величиной с детский кулачок. Сидеть без движения под дождем – одно дело, но оставаться равнодушной к резкой боли не позволили рефлексы. Прикрывая голову руками, я попыталась оглядеться и увидела застывший посреди поля корявый дуб. Укрыться в грозу под одиноко стоящим деревом может только дурак или самоубийца. Что ж, по крайней мере смерть от молнии будет мгновенной. По колено в грязи, я добралась наконец до дерева и нырнула в подобие норы, образованной причудливо изогнутыми корнями, высоко поднимавшими ствол от земли. Как здесь появилась эта яма, меня не волновало, я с облегчением укрылась внутри, получив наконец возможность перевести дух. Вспышки молнии гипнотизировали мое сознание, я сидела, обхватив колени руками, каждой клеточкой улавливая причудливый ритм небесного гнева. Против воли моя память потекла вспять, закружилась водоворотом, словно перенасыщенный горьким перцем суп внезапно стали мешать в другую сторону. Против часовой стрелки. Это было похоже на игру. На детскую игру в пятнашки, а может быть, на классики. Столпы ослепительного света на темной улице. Словно нелепая иллюминация, выдумка сумасшедшего. Яркие круги, совершающие перемещения каждые шестьсот секунд. Гравитация. Скорее всего это была гравитация, один из видов силового воздействия. Человек, хоть чуть-чуть заступивший в яркий круг, мгновенно исчезал. И не было ни обугленных останков, ни моря крови. Только едва заметный след на асфальте. Не знаю, откуда взялась эта девочка. Мы прятались в подвалах домов вместе с другими уцелевшими. Шли пятые сутки Колонизации. Ночные «безумные пятнашки» пришли на смену волновым атакам. Они появлялись внезапно, и оказавшийся на открытом месте человек попадал в ловушку. Многие погибали, перебегая из укрытия в укрытие, - слишком непредсказуемыми были их действия. Нам повезло той ночью: смерть вспыхнула кругами за спиной, едва мы успели юркнуть в подвал очередного дома. И тогда появилась девочка. Лет пяти, в ситцевом летнем платьице, одна косичка расплелась, другая завязана нарядной лентой. Девочка не выглядела испуганной, скорее озадаченной. Словно ее родители неожиданно куда-то спрятались, продолжая игру. А она стояла одна на дороге, в окружении безучастных, но гибельных колонн. Шагах в пяти от нее, в самом центре одного из световых кругов, лежал плюшевый мишка. Неживое не умирает. Это было футуристическое полотно, нарисованное сумасшедшим художником. Темная улица. Девочка. Мишка. Свет-убийца. Я почувствовала, как кто-то сильно сжал мне плечо, и обернулась. Скиннер тоже смотрел на девочку. Которая вдруг сделала шаг к своей игрушке. Шаг. Я даже не успела понять, что произошло. Просто в следующее мгновение я уже была на улице. В те дни гибли тысячи и миллионы, и никто никого не спасал. Это было невозможно. Это было безумием. Но я не подчинялась себе, я всего лишь выполняла команду, данную извне. Это единственное объяснение. Шаг. Девочка огляделась вокруг, и на ее личике явственно проступила тревога. Ей хотелось, чтобы ее обняли и утешили и отвели к маме. Плюшевый медведь казался самым близким, самым родным на свете существом. И время неумолимо было на ее стороне. Шаг. Что-то тяжелое рухнуло на меня сверху и придавило к земле. От внезапной и резкой боли в глазах помутилось. Когда я наконец сумела поднять голову и сфокусировать на дороге взгляд, я поняла, что проиграла. Шаг. Безумные пятнашки. Люди не выигрывают. Отдаленный, но стократно усиленный эхом раскат грома вывел меня из транса. Гроза отступала на запад, на востоке небо алело. Рассвет. Тонкие, слабые лучи еще не показавшегося над горизонтом солнца осветили лежавшую передо мной равнину. Дерево, давшее мне приют, стояло посреди поля, к которому не прикасалась рука человека. Густая трава примята прошедшим ливнем, последние лепестки цветов сбиты градом. Это мое поле, решила я, крепче обхватывая себя потерявшими чувствительность руками. У Малдера было поле, где он умер, почему бы и мне не завести свое? Я не любила вспоминать ту поездку. Даже в той, прошлой жизни не любила. Я говорила себе, что это из-за давления, под которым приходилось вести расследование, из-за идиотских приказов, сменявших один другой быстрее, чем успевали просохнуть чернила, из-за мерзкой природы любого сектантства, в конце концов. Но на самом деле я не любила вспоминать ту поездку из-за Малдера и только из-за него. Это был один из тех его периодов, которые я ненавидела. Его постигло очередное разочарование, и он был готов поверить во что угодно, лишь бы оправдать собственное существование. Но из всех возможных абсурдных идей, какие только могли возникнуть у моего напарника, Мелисса и ее прошлая жизнь были самыми неприятными и тревожными. Меня беспокоила не внезапная уверенность Малдера в существовании прошлых рождений, хотя, возможно, любой другой агент на моем месте написал бы соответствующую бумагу и отправил ее по инстанциям. И гипотетическая возможность того, что мы не первый раз пришли в этот мир, меня не тревожила. Я была права, разве нет? Сейчас, как никогда раньше, я понимаю, что мы живем один раз. И одного-то слишком много. Меня глубоко взволновало то, что Малдер, придумывая себе другие жизни, не смог полностью исключить меня из своего существования, но неизменно выбирал не меня на роль самого близкого человека. Мы работали вместе четвертый год, и в тот момент я впервые осознала, что Малдер незаметно стал самой важной частью моей жизни. Я вращалась вокруг него, как Земля вращается вокруг Солнца. Она также совершает обороты вокруг своей оси и даже имеет спутник, но именно звезде подчинено существование планеты. Солнечному ритму, солнечным вспышкам. Меня задело, что в нашей системе существуют и другие планеты, и орбиты некоторых гораздо ближе к солнцу, нежели моя. Прошло много времени, прежде чем я поняла, почему Малдер сделал такой выбор. В одной из его «прошлых жизней» я была его отцом, в другой – сержантом. Я была слишком поглощена своими переживаниями, не стоившими выеденного яйца, чтобы осознать, что на самом деле он хотел сказать мне. В обоих случаях он наделил меня ответственностью за свою жизнь. Отец распоряжается жизнью дочери, командир – жизнью своего солдата. Малдер добровольно передал мне право определять его судьбу. Если есть степень доверия выше этой, она мне неизвестна. Не знаю, понимал ли он сам значение своего подсознательного поступка. Малдер тоже не любил вспоминать это дело. Как бы то ни было, я уверена в одном: в этой единственной и настоящей жизни он никому не позволял управлять собой. Никому. Вне зависимости от того, чего ему хотелось на самом деле. Воспоминания об этой поездке до сих пор угнетают меня, несмотря на полную потерю способности что-либо ощущать. Я помню его сведенное судорогой боли лицо, его глаза – купель мирового страдания. Этот взгляд отразил бы сейчас участь нашего мира, когда вся планета стала одним большим полем. Полем, где мы умерли… Вероятнее всего, от переохлаждения я впала в забытье, потому что, когда спустя некоторое время я услышала звук голосов, солнце стояло уже высоко над горизонтом. Голоса быстро приближались, и, что самое удивительное, они выкрикивали мое имя. «Скалли! Скалли!» Я не узнала голоса, но сказать с уверенностью, что он был незнакомым, я бы не смогла. Забавно, но при всех произошедших с нашим пространством и временем изменениях, один закон остался непреложным - события имеют обыкновения брать коллективную паузу, а потом набрасываться всем скопом, будто направляемые одной прихотливо-капризной волей. В тот самый миг, когда я ощутила легкий укол любопытства и подумала, что хорошо бы выбраться на поверхность, я осознала с беспощадной отчетливостью, что не могу пошевелить ни одним членом смерзшегося и окаменевшего тела. Я попробовала подать голос. Безрезультатно. В глазах стало стремительно темнеть, и я поняла, что близка к потере сознания, которая подведет итог всем моим жизням. Именно в эту секунду я вдруг поняла, что не хочу умирать загнанной в подпол мышью. Мне хотелось увидеть напоследок свет солнца, я чувствовала манящий зов лучей с поверхности. Каким-то образом мне удалось пошевелиться. Было классическое ощущение раздвоения, потому что за собственными усилиями я наблюдала откуда-то сверху, не чувствуя напряжения мышц, не чувствуя отчаяния онемевшего тела. И голоса, голоса снаружи, то ближе, то дальше, набегающие волнами и расходящиеся кругами по мутной воде. «Все сюда! Я нашел ее! Ребята, все сюда!» Поток ощущений рванулся мне навстречу, грубо сдернув меня с блаженной высоты, где я парила, наслаждаясь покоем. Резкая боль - меня схватили за плечи, перевернули, и в смеженные веки ударил недавно такой желанный, а теперь выжигающий нервы солнечный свет. «Она совсем окоченела, - тот же уверенный голос в вышине, ощущение стального обруча, обхватившего плечи. – Дайте флягу». Мне поддерживают голову, и я понимаю, что мне собираются что-то влить в рот. Мысль приводит меня в ужас, и я чувствую, как по всему телу пробегают конвульсии. Я не хочу, не хочу... Но я не могу им помешать. Капли падают, обжигая растрескавшиеся губы, сбегают вниз - сразу в горло, и оно вспыхивает огнем. Виски... Вот черт. Неожиданно меня одолевает безудержный приступ веселья. Я смеюсь дико, открыв рот в гротескной гримасе, издавая булькающие сухие всхлипы, но внутри заходясь от хохота. Зрение тускнеет, и некоторое время я довольствуюсь тем, что слышу неясный, но встревоженный гул над головой. Затем все разом возвращается: способность видеть, способность воспринимать. Надо мной склонился мужчина, скорее пожилой, чем старый. На солнце невыносимо сверкает лысина, светло-серые глаза смотрят обеспокоенно и как-то вопросительно. Я должна знать этого человека. Должна? Он звал меня по имени. «Это и правда вы, мисс Скалли, - произносит он, слегка улыбаясь. - Вы меня не помните? Джек, Джек Бонсэйнт». Джек Бонсэйнт. Ну, и кто ты такой, Джек Бонсэйнт? Вопросы, впрочем, могут подождать. Мне хочется сесть. «Осторожней, мисс Скалли, - озабоченно произносит он. – Потихоньку». Он поддерживает меня, и совместными усилиями мне удается принять сидячее положение. Я вижу собравшихся вокруг нас людей - пятеро мужчин, обступивших нас и напряженно меня изучающих. Все они одеты в добротные дождевики и высокие сапоги. Местные. Интересно, получится ли у меня что-нибудь сказать? «К-кх...» «Глотните еще, мисс Скалли, глотните». Я послушно на сей раз делаю глоток и чувствую, как кипящая лава стремительно растекается по жилам. Облизываю губы. «К-как вы меня н-нашли?» Слегка заикаюсь. Могло быть и хуже. «Это целая история, мисс Скалли», - улыбается Джек, и я вдруг узнаю его по этой улыбке. Ну конечно. Мэн. Кабриолет. Говорящая кукла. Отпуск. Оказалось, мы с Джонни не доехали пол мили до их поселка. Вернее, я не доехала. Джонни именно там и оказался стараниями нашей обезумевшей от испуга лошади. Его лихорадило, он не мог выговорить ни слова и то и дело терял сознание от переохлаждения. Толку от него добились только к утру и отправились на поиски. «Я просто ушам своим не поверил, мисс Скалли, когда парнишка пропищал ваше имя, - говорил Джек, и его голос омывал меня, как теплые морские волны. Телегу, на которую меня положили, старательно закутав в одеяло, слегка покачивало, хотя лошадь шла шагом. Телегой управлял Джек, остальные шли следом. - Я подумал, бывают, конечно, на свете и не такие совпадения, но чтоб мне провалиться, если не узнаю, вы это или не вы. Я был уверен, что найду вас». Я благодарно и сонно кивала, в чем, правда, не было никакой необходимости. «Ваш пацан так и рвался с нами, - судя по тону его голоса, Джек улыбался. - Но он сам едва живой. Крепко вы попались, ничего не скажешь. Повезло, что выжили». Повезло... Везение - это остаться в живых? Я попробовала мысль на вкус, но она оказалась пресной и горькой, как остывший кофе. Удача умерла вместе с надеждой. Парадокс, но к тем, кому на судьбу наплевать, она обычно благосклоннее. Я встала на ноги и полностью оправилась за двое суток. Джонни провалялся в постели неделю, да и потом последствия нашей авантюры еще долго напоминали о себе. С тех пор он всегда подкашливал в сырую погоду, и у меня появилось неприятное подозрение, что от этого кашля ему избавиться не удастся. Пока он шел на поправку, я знакомилась с обитателями поселения. Джек собрал под своим началом около пятидесяти человек - все, кто выжил и не захотел сниматься с насиженных мест. Я много разговаривала с ним в то время, хотя беседы эти были в достаточной степени односторонними - он говорил, я слушала. Вечером перед нашим отъездом Джек предложил мне прогуляться в старый город. Мы прошлись по заброшенным улочкам, выглядевшим нетронутыми, просто покинутыми. «Мы идем к вам в участок, Джек? - спросила я, смутно припоминая дорогу. - Я не ошибаюсь?» «Нисколько, - он улыбнулся. - Я хочу показать вам кое-что». Я молча кивнула. Меня слегка позабавило, что дверь была заперта. Чтобы впустить меня, Джек долго возился с огромной связкой ключей. Поймав мой взгляд, он виновато улыбнулся. Мы вошли. Помещение утопало в пыли и солнечном свете. Столы и конторки выглядели так, словно хозяев вежливо попросили покинуть помещение в один прекрасный день, потому что в туалете сработала пожарная сигнализация. Припорошенный сединой рабочий беспорядок, нормальный хаос обычного дня. Было тихо. Ветер на улице обрывал с деревьев последние листья, и мы слышали их протестующий шелест по асфальту. Джек кашлянул. «Будто домой опоздал, - пробормотал он, безуспешно пытаясь скрыть неловкость. - Лет на двадцать». «Что вы хотели мне показать, Джек?» «Ах да, простите». Он взял меня под локоть и повел вглубь комнаты. Две дорожки следов на пыльном полу выглядели подозрительно и не к месту. Несколько отрывочных воспоминаний о заброшенных военных базах и законсервированных архивах, которые не ждали гостей, ненавязчиво скользнули по краешку сознания. Я выставила их за дверь. Мы вошли в кабинет Джека, отгороженный мутными стеклами низеньких перегородок. Джек посмотрел на меня с видом Санта-Клауса, заявившегося на порог в середине июля. «Ваш подарок, мисс Скалли, - произнес он, указывая на стену. - Вы прислали мне его, а я сохранил. Хоть, признаться, так и не понял, что это значит...» Я посмотрела на стену и увидела висящий напротив стола пыльный - как и все вокруг - постер. Очень знакомый постер. Оставив меня стоять на пороге, Джек подошел и аккуратно стер рукавом пыль. Отступил, давая мне возможность обзора. Летающая тарелка, четкий темный силуэт над молчаливо-враждебным лесом. Идиотская - я всегда считала ее таковой - надпись внизу: Я ХОЧУ ВЕРИТЬ. Я молча смотрела на постер, а Джек на меня, и что-то в моем лице заставило его насторожиться, хотя я не почувствовала никаких изменений. «Я... - он кашлянул в кулак. - Я подожду снаружи». Его шаги стихли, скрипнула, закрываясь, дверь. Я осталась в пропитанной пылью тишине созерцать нелепую картинку. Один на один с прошлым. Неосознанно я подошла ближе, не обращая внимания на пыль, присела на стол, не сводя глаз с дурацких елок. Я хочу верить. Как можно жить с таким лейтмотивом? Неопределенность, причина которой ты сам, желание, установка, которую нельзя выполнить из-за собственных ограничений. Недостижимая, намеренно недостижимая цель. Можно ли следовать цели, не разделяя ее? Мир вокруг пульсировал в унисон ударам моего сердца. Если сосредоточиться на том, что я вижу перед собой, убрать лишнее... Почувствовать, что затхлый воздух вокруг - воздух душного подвала, что тело заковано в броню костюма из тонкой шерсти, а не в старую куртку, что комната за спиной темная и заставленная всеми видами космического мусора... Перед глазами от напряжения вспыхнули огоньки, но я упрямо смотрела на постер. Мне показалось... почудилось... смутное движение, едва различимое уголком глаза... я знаю, что он вошел в комнату на мягких кошачьих лапах, но не показываю вида... не вижу, но чувствую движение, а носа достигает знакомый аромат лосьона после бритья... улыбаюсь против воли, зная, что сейчас услышу... «Надеюсь, ты захватила свои ковбойские ботинки?» И я больше себя не контролирую, поддавшись власти наваждения, сдавшись на его милость. Я резко оглядываюсь, чувствуя лихорадочную пульсацию крови в висках... Никого. Пустая комната. Другая комната. Звенящая тишина. Мираж растаял, и я бессильно уронила руки на стол, навалившись на него всем весом. Что же это за жизнь, когда из-за каждого поворота возникают призраки и живые люди, упорно тянущие тебя назад, в мир отчаяния и боли, которой нет конца? Что же это за жизнь? Я выпрямилась и снова повернулась к постеру. Отчетливо, невероятно ясно я увидел зыбкую фигуру, сошедшую с изображения и зависшую в воздухе между ним и мной. Боль. Старая, вечно новая, вечно острая, не умирающая, бессмертная боль, которая на самом-то деле первой явилась в мир, что бы там ни утверждала Библия. Я впитываю ее кожей, не пытаясь защититься или спрятаться. Нет, я не так наивна. Каждой маленькой клеточкой, каждой порой я всасываю ее в себя, словно редкостной силы вампир, ненасытный, не мыслящий. Неживой. Это болел Малдер. Он был фантомной болью, тупым монотонным гудением ввинчиваясь в сознание, и оно отдает милосердный приказ: погладить страдающее место, утешить прикосновением, приласкать. Чтобы боль притупилась. Отступила. Ушла. Но рука, потянувшаяся исполнить приказ, встречает лишь пустоту, и пустота вспыхивает яростным набатом незаслуженной обиды. «Мисс Скалли, с вами все в порядке?» Я сама виновата. Сама. Что тянуло меня в Мэн накануне зимы? Если бы я послушала голоса рассудка, я бы не стояла сейчас напротив нелепого старого постера, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Умирающая, но еще живая. Уже живая. Мы уехали в тот же день. Я механически отвечала на вопросы, предоставив Джонни поддерживать беседу и управлять подновленной телегой. Джек хотел сделать нам сюрприз, и ко дню нашего отъезда наше немудреное средство передвижения обзавелось крепко сбитыми бортами, на каждом из которых красовался яркий красный крест, и прочной брезентовой крышей. Телега таким образом превратилась в мини-фургон, где отлично разместились все наши пожитки. Если я что-нибудь понимала, мы ехали на зимовку в Возрожденную Надежду. Мне было все равно. Джонни взял на себя не только управлением нашим передвижением, но и контакты с местным населением, прибегая к моей помощи только в случае необходимости. Большую часть суток я сидела, уставившись в пространство и не думая ни о чем. Ела, когда мне давали еду, ложилась, когда приходило время спать. Правда, со сном выходило плохо. Вспоминая об этом пути, я не могу с уверенностью сказать, длился он месяц или полгода. Я не различала дней и пейзажей, окружающий мир слился в единую бесцветную ленту, кольцами обвившую остатки моего сознания. Он ушел навсегда. Я столкнулась с необходимостью принять этот факт, налетела на него, словно на стену из пуленепробиваемого стекла. С легким привкусом горечи я осознала, что никогда раньше не могла полностью в это поверить. Малдер приучил меня не верить в окончательную смерть. Помню первый раз, когда он исчез. Два года знакомства перевернули мою жизнь, изменив ее до неузнаваемости. Я еще цеплялась за остатки своей системы ценностей, своей веры в то, что я считала правильным, своего доверия к власть предержащим. Серия жестоких ударов сплотила нас так крепко, что мы казались двумя половинками устричной раковины, бережно охранявшими хрупкие крупицы справедливости. Я не идеализировала наши отношения. Нам еще предстояло преодолеть обиды и непонимание, пройти сквозь предательство и измены, научиться прощать друг друга, несмотря ни на какие чувства. Позже, много позже наступили черные дни, когда я ненавидела Малдера, когда мне было невыносимо ощущение капкана, сжавшего в титановых тисках мою личность, когда я видела себя приговоренной собственным чувством долга к вечному заточению в замкнутом круге проигрыша с бездушной, но расчетливой машиной по производству несчастий и неудач в качестве сокамерника. Но тогда до этого было еще далеко, и я думала, что мое сердце вот-вот разорвется от натуги, силясь переварить и принять его смерть. Но он не умер. Он вернулся. Как ни в чем не бывало, словно решил подшутить и уйти в незапланированный отпуск. Он вернулся в прямом смысле из огня, и я как верный солдат, боготворящий полководца, вновь встала под его знамена. Я была счастлива, но первый камушек в стене отчуждения был положен. Нельзя безнаказанно эксплуатировать энергию чужих душ. Он не умер. Он отправился в Россию и попал в одно из тех пересечений параллелей и меридианов, откуда не возвращаются. Но он вернулся. Он не умер и во время идиотской операции под прикрытием, в которую втравил его Скиннер и собственный не в меру ретивый язык. Не умер в том чертовом поле. Не умер в Бермудском треугольнике, ввязавшись в немыслимую авантюру. Он не умер, когда имплантированный ему инородный клеточный материал едва не сжег его мозг. Он так никогда и не умер. Своеобразный вариант земного бессмертия. Кто может упрекнуть меня в том, что я не смогла поверить и в этот, последний раз? Просто ожидание обещало затянуться немного дольше, чем обычно. Ждать и не сдаваться - только и всего. Пусть бросит в меня камень тот, кто прошел через это. Наверное, именно поэтому осознание его окончательного ухода настигло меня с таким опозданием. В День Х, когда небеса в прямом смысле разверзлись, и на Землю упал ад, я даже и близко не подошла к этому пониманию. Как ни абсурдно это звучит, но конец света был лишь фоном, сценой, на которой разрывался спектакль. И все главные роли по-прежнему были расписаны. Целый год я колесила по стране, и осколки прежней жизни безжалостно впивались в плоть каждую милю. Каждый день. Этого было мало, катастрофически недостаточно для принятия одной простой, непреложной последней истины. Его больше нет. И никогда, НИКОГДА не будет. И никакого значения не имеет мой предполагаемый долг перед человечеством. В каком-то смысле постер, который я подарила Джеку до нашей эры, вернул мне Малдера таким, каким я задолго до этого его утратила. События, переворачивающие мироздание, посыпались со сверхсветовой скоростью, накладываясь друг на друга, приправленные личными трагедиями каждой отдельно взятой души. Мой бывший напарник превратился для меня в туманный образ на горизонте, в набор букв, которые я даже не могла выговорить, в эфемерную субстанцию, не имевшую ничего общего с существовавшим некогда человеком. Вид этой чертовой летающей тарелки, парящей над лесом, прорвал по крайней мере плотину фактических воспоминаний, вернул мне историю, отголоски событий. Но не чувства. Мы подъехали к Возрожденной Надежде на рассвете в первый день Рождества. Видимо, накануне здесь был большой праздник, потому что принарядившиеся улочки выглядели пустынными и сонными, и даже часовые дремали в своей палатке, вместо того, чтобы встречать предполагаемую угрозу. Проведя очередную бессонную ночь, я устало рассматривала полузнакомые очертания построек, кутавшихся в сырую дымку. Джонни смотрел прямо перед собой, и его напряженный позвоночник сигнализировал о том, что нервы у него были на взводе. Я почувствовала легкий укол совести. Неужели я довела его до такой степени, что гипотетическая возможность сдать меня здесь с рук на руки была для него единственным утешением? Но в этот момент он повернулся ко мне, и губы его тронула несмелая улыбка. «Вот вы и дома, доктор Скалли». Я кивнула и ободряюще похлопала его по плечу: это было легче, чем улыбаться в ответ. Он, казалось, был вполне счастлив. «Нам туда», - я показала направление к дому, в котором, если я правильно помнила, обитал Скиннер. Со скрипом наш верный фургон развернулся и покатил по узенькой улочке. Линия горизонта заалела, и я, поежившись, подумала, что не стоило, вероятно, ломиться в дом в такую рань. «Останови», - бросила я Джонни, неожиданно разглядев в сумраке на ступеньках крыльца знакомую, не уступающую габаритами медведю, фигуру. Она была совершенно неподвижной, если не считать огненной точки тлеющей сигареты, над которой вилась едва различимая струйка дыма. Он что, курит? - против воли поразилась я. Неожиданно эта тривиальнейшая новость застала меня врасплох. Некоторое время никто из нас не двигался. Наконец темная фигура пошевелилась, поднялась на ноги и вынырнула в неясный утренний свет. «Мой Бог...» - произносит он хриплым голосом. Джонни переводит заинтригованный взгляд с него на меня и обратно. К собственному удивлению, я вдруг обнаружила себя проворно выбирающейся из фургона. Машинально отметила, как участился пульс. Так странно. Ведь мне по сути нет до этой встречи никакого дела. Просто очередная природная неизбежность вроде дождя или солнцепека. «Ты вернулась, вернулась...» Он сжал меня в объятьях так крепко, что я едва могла вздохнуть, а самым странным было то, что я сама буквально повисла у него на шее, отвечая на объятье с пылом, причины и механизм возникновения которого мне были не вполне ясны. А потом он начал смеяться так громко, что его смех неминуемо должен был разбудить всю округу. Мы сидели в уютной квадратной комнате, служившей ему гостиной. Сразу две хозяйки, одну из которых я помнила, а другую нет, поили нас чаем и рассматривали, не скрывая любопытства. Их особенно заинтересовал Джонни, у которого с лица не сходил румянец с того момента, как мы пересекли порог. Скиннер, поначалу смущаясь, но постепенно делаясь все более и более уверенным, рассказывал о том, как они жили с тех пор, как я уехала. Им не хватало меня, я это поняла по временами печальному тону его голоса и легким упрекам в глазах женщин. Впрочем, никто не требовал от меня извинений, которые я все равно не собиралась приносить. Скиннер с изрядной долей иронии поблагодарил меня за то, что я отправила к нему Стоунсайфер и Кинсли. («Эти двое чокнутых»). Они рьяно взялись за организацию местной школы, в чем немало преуспели, и собирались пожениться весной. «Она не то чтобы от него в восторге, - сказал Скиннер задумчиво, и я не могла сдержать недоверчивой улыбки, услышав, как он рассуждает на такие темы. – Но вроде бы считает это чем-то само собой разумеющимся». «А где Доггетт?» - поинтересовалась я, несколько удивленная, что он до сих пор не объявился. Слухи о нашем прибытии наверняка уже распространились по всей территории. Скиннер помрачнел и переглянулся с одной из женщин. Она ответила ему таким же хмурым взглядом. «Навещает Монику. В другом поселке, в пяти милях к востоку отсюда». «Монику? – я непроизвольно встрепенулась. – Она жива?» К моему удивлению, он помедлил, прежде чем ответить. Набрал в грудь воздуха, словно готовился к затяжному погружению. «Можно и так сказать». «Что это значит?» Скиннер покачал головой. «Ты сама увидишь». И я действительно увидела, отправившись в соседний поселок в тот же день ближе к вечеру. Моника Рейес сошла с ума. Не то чтобы в этом крылось нечто поражающее воображение – эта печальная участь постигла в большей или меньшей степени многих переживших День Х. Но от опытного агента ФБР, обладателя тренированного ума и воли, такого исхода ожидать трудно. Что ж, все мы люди. Помешательство Моники было тихим, не угрожающим ни ее собственной жизни и здоровью, ни благополучию окружающих, и не имевшим ничего общего с шизофренией. Она просто отказалась помнить. Отказалась не только от кошмарных событий Колонизации, не только от всей прошлой жизни, но и от жизни вообще. Она не помнила ни себя, ни окружающих, не отдавала себе отчет в своих действиях, не могла вспомнить, чем занималась минуту назад или как оказалась там, где была. Как ни парадоксально, это делало ее невероятно удобным членом коллектива, ибо она беспрекословно воспринимала любую команду и делала любую работу: рыхлила землю, когда ее подводили к грядке, просеивала муку, когда ей давали в руки сито, читала детям вслух, когда ей клали на колени книгу. Она могла сосредоточиться только на одном-единственном выполняемом в настоящую минуту действии и напоминала воплощение параноидальных фантазий человеческого сознания – биологического робота, такого же несовершенного, как его создатель. Когда я вошла в ее комнату, она сидела неподвижно, уставившись в одну точку с отрешенным – обычным для нее теперь – выражением лица, и слушала Джона. Не думаю, чтобы она в действительности слышала хоть одно слово из того, что он ей говорил. Я не знаю, как он это выдерживал, что заставляло его раз за разом приходить к ней и пытаться колдовством, словесными пассами над дышащим трупом воскресить живого человека с сердцем и волей. Это было фантасмагорично, это было страшно. Он не видел, казалось, что разговаривал с пустой оболочкой, с раковиной, которую грубо разломали надвое и вырвали жемчужину, а потом по странной прихоти кое-как прикрепили еще трепещущие отголосками жизни половинки друг к другу. Я испытала неподдельный ужас, глядя на этот манекен, в котором я не могла, не хотела опознать человека, которого когда-то знала. Человека, спасшего мне жизнь. «Я прихожу к ней каждую неделю, - устало рассказывал Доггетт, когда мы возвращались в сумерках по знакомой дороге. – Чаще не получается. Не потому, что занят, а потому что чаще… чаще я не могу». Я осторожно дотронулась до его запястья, и этот жест сочувствия прорвал стену отчужденности, возникшую было между нами при встрече. «Я не могу видеть ее такой, Скалли, не могу, понимаешь? И не могу не видеть. Иногда мне кажется, вот-вот она очнется, посмотрит мне в глаза, - она теперь ни на кого глаз не поднимает, - узнает меня и вспомнит… Хоть что-то. Хотя бы осознает себя. Когда она чем-то занята, и ты не смотришь ей в лицо, так легко забыться! Иногда я останавливаю себя в последний момент, заметив, что собираюсь обратиться к ней по-прежнему… Так легко забыть, что она не… - он запнулся и вдруг резко развернулся ко мне. – Почему она не умерла, Скалли? Зачем они оставили в живых этот ходячий труп? Она не человек больше, тогда зачем ей жить? Чтобы продолжать мучить нас?» Это кричал не Доггетт, это кричала боль, рвущая на части душу, неизбывная в своей беспомощности, в неспособности облегчить страдания, выпустить их на волю. Мне нечего было сказать ему, я стояла, впитывая, как губка, хлещущие из него яростные волны, пропуская их через себя, прежде чем освободить. Для него это была пытка, к которой он приговорил себя сам, которой он не мог избежать. Отвернувшись, я посмотрела на звезды. Мерцающие разноцветные искры в вышине, невинные, как драгоценные камни, похищающие души своих владельцев, неприступные и холодные, приносящие смерть. Я вспомнила неожиданно ясно, как однажды, вот так же глядя вверх на звездное небо, Малдер сказал, что звездный свет – это души, пересекающие вселенную миллиарды световых лет в поисках дома. Если это правда, если это действительно так, могла ли я сейчас смотреть на самом деле ему в глаза и в глаза Моники, ощущать кожей невесомое прикосновение их душ, струящихся с небосвода, познавших истину и принявших ее, стремящихся обрести приют и дать нам желанное утешение? Если это правда, почему рядом со мной живое человеческое сердце сочится кровью, исходит надсадным, взрезающим саму суть бытия криком, бьется в агонии и не может остановиться? И почему мы не можем влиться в этот хрустальный океан вечного умиротворения, воссоединиться с теми, кого любили? Потому что это красивая ложь. Потому что звезды, погибшие миллиарды лет назад, все еще шлют нам сквозь время и пространство свой свет, пронзительный и смертоносный. Даже после смерти они ненавидят нас, и в волнах этой извечной ненависти мы пытаемся выжить, искупить неизвестно чью вселенскую вину. Малдера нет там, в этом ледяном безмолвии. И Моники тоже. Мы прошли остаток пути молча, и при виде нас Скиннер не сказал ни слова. У меня не было никаких планов на будущее. Спроси меня кто-нибудь в тот момент, хотела ли я остаться или ехать дальше, я бы не смогла ответить наверняка. Какие могут быть предпочтения там, где любая мотивация является атавизмом? Зимние месяцы текли плавно, сменяя один другой в неразличимой череде дней. Большую часть дня я ходила по поселению, оказывая врачебную помощь в случае необходимости, либо безразлично изучая скудные прекрасно знакомые пейзажи. Иногда я ходила посмотреть на Монику, именно посмотреть - я никогда не подходила близко. Зиготы любопытства и страха подталкивали меня к подобным действиям, и я не сопротивлялась, хотя и чувствовала себя посетителем кунсткамеры. Моника была тем, кем я неминуемо стала бы, не начнись Вторжение. Провести в глухом отчаянии целый год, каждый день воскрешая утром и хороня вечером надежду, гоня прочь мысли о самоубийстве, потому что внутри меня зрела другая жизнь - это не могло пройти бесследно. Я научилась жить с чувством потери, ибо вера в то, что Малдер когда-нибудь каким-нибудь образом вернется, постепенно угасала во мне, как забытая на балконе свеча. И как бы я ни уговаривала себя не жить только ради ребенка, лишь он один удерживал меня, заставляя цепляться из последних сил за край желанной пропасти забвения и покоя. А потом он умер. Мой ребенок, мой сын умер, не успев сделать первый вздох. Билли Майлзам пришлось убраться восвояси ни с чем. Поразительно, как быстро они утратили к нам всякий интерес, едва почуяли смерть. А я лежала без сил на грани беспамятства и пыталась понять, любила ли я этого не родившегося человека. Не было ни слез, ни эмоций, одна пустота. Должен ли он был стать мессией, новым спасителем человечества от неведомой доселе чумы? Я не знаю, мне наплевать. Помню, кто-то додумался показать мне результаты вскрытия, которые я изучила внимательно, с болезненно-безразличным пристрастием. Обычный человеческий ребенок, никаких аномалий, никаких отклонений. Что ж, тем лучше для него. Мать должна быть существом, дарящим радость, а не источником смертельно опасной радиации, излучающим вселенскую тоску, и уж никак не ангелом мести, ополчившимся на весь мир. Ты ничего не получил бы от меня, малыш, кроме постоянной опасности и, кто знает, возможно, ненависти как финальной точки эволюции безнадежной любви. Ты был обречен на жестокое и беспросветное существование еще до рождения. Так что считай, что тебе повезло. Покойся с миром. На исходе зимы я почувствовала непреодолимую жажду перемен. Слишком размеренной была жизнь в этом месте, слишком умиротворяющей. Она звучала мощным диссонансом остаткам моего внутреннего мира, привыкшим жить в замкнутом вакууме безвоздушного пространства, в капсуле, бултыхавшейся в крови, слезах, разрушениях и муках. Лица друзей вызывали желание скрыться, отгородиться от всего, что могло бы напомнить о днях минувших. Наверное, Скиннер почувствовал мое настроение. Однажды утром я застала его приводящим в порядок наш фургон. Он здорово переменился за время моего отсутствия. Мне кажется, если бы в силу какого-то каприза пространственно-временного континуума я увидела бы Скиннера таким, каким он стал сейчас, несколько лет назад, я не узнала бы его. Он стал жестче, чем был тогда, и изменилась не столько степень, сколько качество. Все черты его характера проступили резче, отчетливей и – по-другому. Он стал не только сам себе хозяином, но и точкой опоры и веры множества людей. Эта новая для него роль была едва ли не самым сложным испытанием из всех, что на него обрушились, но, видимо, он шел к этому вызову всю жизнь, даже не подозревая об этом. Увидев меня в дверях сарая, где до времени нашла себе пристанище наша телега, он улыбнулся. «Добротная вещь, - он похлопал ладонью деревянный борт. – Помнится, в свое время мы довольствовались куда более убогой колымагой». «Жизнь не стоит на месте», - заметила я, подходя ближе. «Не стоит, - согласился Скиннер, окидывая сосредоточенным взглядом колеса. – Подай молоток, пожалуйста». Передав ему инструмент, я стала наблюдать за ним, прислонившись к слегка сырой деревянной стене сарая. Некоторое время мы молчали. «Я так и думал, что ты скоро соберешься нас покинуть, - произнес он, не отвлекаясь от работы. – Надеялся, что ты дождешься, пока у Магды подойдет срок, но что уж тут». Магдой звали его вторую жену, и она была на последнем месяце беременности. Первая жена, Кэйтлин, во всем помогала ей. То-то Малдер повеселился бы, узнав, что его босс стал многоженцем. Удивительно, насколько спокойно и обыденно мы стали относиться к прежде немыслимым вещам. «У нее будет двойня, знаешь? Я ясно слышала два сердца». «Да, Кэйтлин мне тоже говорила. Придется сделать в доме пристройку». Я покачала головой, зная, что он меня не видит. Он не любил их, этих двух женщин, оставшихся под его крышей. Не любил ни одну из длинной вереницы прошедших за этот долгий год через его постель. Но они вносили в его дом уют и тепло, и я знала, что дети станут на долгие годы смыслом его существования. Он оставит после себя многочисленное потомство, и надо отметить, с не самым плохим набором генов. А уж воспитать их как надо он сумеет, в этом нет сомнения. Кстати, о воспитании. «До меня дошли слухи, что Люси и Майк потчуют детей странными рассказами». Молоток заработал вдвое активней. «Они рассказывают им о «Секретных материалах». Это не было вопросом. Я просто хотела услышать объяснение. Молоток замолк, послышался вздох, и через мгновение Скиннер вылез из-под телеги. Посмотрел на меня настороженно, но тут же расслабился. «Я попросил их, - кивнул он, видя, что я не злюсь. – Эти дети должны знать правду. Историю». Не удержавшись, я хмыкнула. «Своеобразный взгляд на историю». «А ты хотела, чтобы им рассказывали о войне в Заливе? – он усмехнулся. – Нет, Скалли, это ваши с Малдером имена будут увековечены в истории, о вас должны знать и помнить, а не о Никсоне или Маккарти». «Ты увековечишь имена двух величайших неудачников, только и всего». «Нет, черт возьми, всего лишь двух своих друзей. Могу себе позволить». Он улыбался мне, а я вдруг вспомнила, как, умирая, убеждала Малдера, что Скиннер нас предал, что ему нельзя верить. Что ж, мы всегда делили обязанности поровну. Малдеру досталась интуиция. Мне – инстинкт самосохранения. Поэтому я жива сейчас, а он… «Присядь, Скалли», - он потянул меня за руку, и мы сели рядом на устланный сухой соломой пол. Скиннер закурил, я молча смотрела перед собой, прислонившись спиной к теплому дереву. «Знаешь, я так никогда и не понял, каким образом тебе все-таки удалось одержать над ним победу. Он годами не замечал тебя, считая чем-то вроде бесплатного приложения. Было время, когда я всерьез хотел добиться твоего перевода в другой отдел. Любой ценой». «Почему же ты этого не сделал?» «Потому что понял, что уже поздно. Яд, которым он отравил тебя, успел распространиться по всему организму и прорасти. Малдеру оставалось только срывать цветы с этих всходов». Я почувствовала неприятную тяжесть в районе солнечного сплетения и не потому, что Скиннер заговорил как фермер. Он коротко посмотрел на меня и рассмеялся. «Не хмурься, Скалли. Я вижу, ты и теперь готова перегрызть мне за него глотку как когда-то. Как думаешь, если мы сейчас наставим друг на друга оружие, сукин сын появится в дверях, чтобы не дать нам пристрелить друг друга?» Я промолчала, прислушиваясь к звуку воды, капающей с водостока. Накануне был сильный дождь – редкость в здешних местах. То есть, раньше такой дождь был бы редкостью. Климат менялся прямо на глазах совершенно непредсказуемым образом. «Извини», - произнес наконец Скиннер без тени улыбки. Я похлопала его по колену, показывая, что все в порядке. Он покачал головой, то ли придя в недоумение от собственных мыслей, то ли отказываясь от моего сочувствия. «Я скучаю по нему, Скалли. Столько лет мы… Мне его не хватает». «Я знаю». Мы так и сидели молча, пока нас не разыскала Кэйтлин, собиравшая всех к столу. Джонни вызвался сопровождать меня и дальше, и, несмотря на мои возражения (парню было бы намного лучше осесть где-нибудь), Скиннер горячо поддержал эту его идею. В итоге мы собирались в путь вдвоем. Накануне нашего отъезда Магда и Кэйтлин приготовили роскошный ужин. Атмосфера в доме была приподнятой. Джонни был полон энтузиазма, Скиннер – кипучей деятельности, женщины с головой ушли в хлопоты, дети – в веселье. Стоунсайфер и Кинсли наперебой рассказывали древние анекдоты, но все почему-то смеялись, несмотря на подчеркнутое отсутствие юмора. Только Доггетт не почтил своим присутствием импровизированный банкет, и это внушало мне смутное беспокойство. Раз или два я ловила пристальный и серьезный взгляд Скиннера, который тут же отводил глаза. У меня засосало под ложечкой, и мне очень хотелось, чтобы ужин закончился побыстрей. Когда все наконец разошлись по своим домам и комнатам, я честно попыталась заснуть, но сон не шел. Промучавшись час, я поняла, что бороться с собой бесполезно. Я не усну, пока не узнаю, где он. Одеваясь, я настороженно прислушивалась к мерному посапыванию Джонни и пыталась вспомнить, когда видела Доггетта в последний раз. На цыпочках выбираясь из дома, я вдруг осознала, что не видела его уже три дня, да и тогда – лишь мельком. С ним творилось что-то странное, а мне не достало чувств поинтересоваться, что именно. Ночь выдалась безлунной, но светлой, я не чувствовала в пыльном безмолвии вокруг никакой угрозы. Все произошло в одно мгновение: скрипнула ступенька крыльца под моей ногой, темный силуэт метнулся ко мне из ниоткуда, я потянулась за оружием, но безнадежно опоздала, плечи попали в стальной захват, вырваться из которого нечего было и думать. Я ударила что было силы, целясь пяткой в коленную чашечку. Нападавший сдавленно охнул от боли, и я узнала голос Скиннера. Он тут же разжал свою медвежью хватку. «Какого черта...» - задыхаясь, прошипела я, глядя, как он разминает колено. «Я не знал, что это ты, - произнес он, выпрямляясь. – Рефлекс». Я покачала головой, успокаивая дыхание. «Бессонница?» Я пожала плечами. «Думаю, мы здесь по одной причине». «Доггетт, - резюмировал он. - Ты беспокоишься?» «Я не видела его три дня». «Самое интересное, что и я тоже. В доме, где он живет, его нет – я только что был там». «Есть предположения, где он может быть?» «Только одно». Переглянувшись, мы согласно зашагали по темной дороге. Едва мы пересекли невидимую границу поселения (Скиннер кивнул сонным часовым), как он достал из кармана небольшой фонарик, и тонкий голубой луч запрыгал перед нами, выхватывая из темноты ямы и кочки. «Светодиод, - пробормотал Скиннер. - Я к нему год не прикасался. Все еще работает». Некоторое время мы шли в молчании. Сырое дыхание мартовской ночи ледяными щупальцами пробиралось под одежду, заставляя организм сжиматься от холода. Я пыталась привести в порядок растрепанные волосы, Скиннер всматривался в темноту, словно надеялся набрести на указатель. Кружок голубого света - привет из прошлого - вел нас за собой, и у меня возникло подспудное ощущение, что мы двигаемся назад во времени. Цель нашего пути была связана неразрывными узами с тем, от чего мы в свое время отказались по не вполне зависящим от нас причинам. Но дело было не только в Доггетте. Эта дорога вдвоем в середине ночи в самом центре ничего вызывала deja vu в прямом смысле на каждом шагу. Мы уже разыскивали человека в составе этой недоверчивой, но сработавшейся команды, только тогда наши поиски не увенчались успехом. «Ты не замечала за ним ничего необычного в последнее время?» Я задумалась. Мы мало общались с тех пор, как я приехала. Учитывая мою склонность к уединению, я не придавала этому значения, но сейчас я вдруг осознала, насколько это было нехарактерно для Доггетта. Он никогда не был замкнутым. В перемену его отношения к себе я тоже не верила, а если она и имела место, то причины должны были быть действительно экстраординарными. Разумеется, у нас сейчас все экстраординарное, но люди остаются верны себе, на этом держится мир. Не все, конечно, но такие как Джон – обязательно. Скиннер согласился со мной. «Если бы я не был так занят, я бы заметил, как он отдалился в последнее время. Думаю, это все из-за Моники. Другой причины я не вижу». «Но как она оказалась здесь?» «Да можно сказать, свалилась с неба. Однажды она просто появилась здесь и все. Никто не видел, когда или как она сюда попала». «Ты не думаешь, что ее могли… ну…» «Подбросить? – он покачал головой и закончил как-то непонятно. – Дана, иногда ты меня пугаешь». Три мили расстояния мы одолели довольно быстро, быстрее, чем привыкли, и поэтому оклик часового застал нас врасплох. В ту ночь дежурил худощавый немного нервный юноша, которого я видела раз или два. Скиннер его знал. Глухая ночь – не время для визитов, и парень был явно обеспокоен нашим появлением. Скиннер коротко объяснил ему, в чем дело. По словам часового, Доггетт действительно был здесь, пришел вечером, и вроде бы не уходил. По крайней мере, с этой стороны поселка. Поблагодарив его, мы пошли прямо к хижине Моники. Она была пуста. Постель была смята, но хозяйки нигде не было видно. В доме напротив жила девушка, приглядывавшая за ней, и мы решительно постучались к ней. Мэри открыла не сразу. Заспанная, растрепанная, она долго не могла понять, чего мы от нее хотим. Наконец проснувшись, она встревожилась. Накануне она как обычно проследила, чтобы Моника легла спать, и покинула ее жилище, только когда она уснула. Доггетта она не видела и не могла понять, куда делась ее подопечная. Скиннер посмотрел на меня, и по его лицу я поняла: на нас неотвратимо надвигалась темная, тяжелая туча. Дурное предчувствие скользкими перепончатыми лапками прикоснулось к сознанию, липкий холод патокой растекся в крови. Их нужно было искать, а я поняла вдруг, что не хочу, чтобы их нашли. Тем не менее, довольно быстро – сказывался опыт – Скиннер поднял на ноги людей и организовал поисковые группы. Угрюмая цепочка факелов вспенила ночную плоть, роняя тревожные тени на лица и души, напоминая гигантского стального спрута, выбрасывающего щупальца в попытке отобрать у разумного океана его добычу. Мы прочесывали окрестности частым гребнем, подстегиваемые тревогой и чувством вины, чем бы оно ни было вызвано, словно родители, не уследившие за ребенком. Мне не нравилось тянущее, сосущее ощущение в груди, терзавшее меня при мысли о Доггетте и Монике. Оно напоминало о прежних днях, о том болезненном страхе, который неизменно вел к зависимости от благополучия других людей. Я слишком часто ходила по этой дорожке раньше, чтобы у меня было хоть малейшее желание вновь на нее ступить. Монику нашли на рассвете. Крики донеслись со стороны реки, и мы – все, кто был поблизости, - бросились туда. Она лежала лицом вниз возле самого берега, и волны тихонько покачивали ее, бережно убаюкивая и лаская. Ее вынесли на берег, осторожно положили на песок. Мне не требовалось приближаться к ней, чтобы понять: она была мертва уже несколько часов, вероятно, еще с полуночи. Глаза ее были закрыты, лицо – спокойно и безучастно, губы плотно сжаты. Смерть скорчила напоследок забавную гримасу – в тот момент Моника как никогда напоминала себя прежнюю, ту женщину, которой я восхищалась, несмотря на снедавшие меня страх и отчаяние, в те, далекие и почти забытые былые времена. «Должно быть, оступилась и упала в воду», - предположил кто-то. Прислушавшись, я поняла, что это было мнение большинства собравшихся. У этих людей не было за плечами многолетнего опыта в криминалистике, они не заметили ни бледных синяков на ее руках, ни едва различимых следов на шее. Моника Рейес умерла не своей смертью, хотя скорее всего не сопротивлялась ей. Так на заре новой эры человечества я вновь оказалась лицом, проводящим расследование преступления. У меня была жертва и способ убийства, у меня был единственный подозреваемый, не обладавший у тому же алиби, у меня были свидетели, которые помогли сложить картину воедино. Единственное, чего не хватало для образцового отчета, так это мотива. Как там говорилось в учебниках? Найдешь мотив – найдешь убийцу? Что ж, в данном случае следовало поступить ровно наоборот: найти никем не узнанного убийцу и попытаться его понять. Прощение, что-то мне подсказывало, ему не требовалось. Тело Моники бережно завернули в чей-то плащ и понесли обратно, к месту, ставшему ее последним домом. Проводив взглядом понурую процессию, я неспешно двинулась вверх по течению речушки. Я должна была найти Доггетта. Я действительно наткнулась на него, пройдя полмили вверх по течению реки. Он сидел неподвижно на крутом откосе, спиной к берегу, словно собирался прыгать в воду. Очевидно, ветер и песок скрадывали звук моих шагов, потому что он вздрогнул, когда я дотронулась до его плеча. Ветер раздувал пустой рукав его рубашки, который он не потрудился завязать узлом, как делал обычно. Все еще держа руку на его плече, я опустилась рядом на колени, пытаясь заглянуть ему в лицо. Он повернулся ко мне, и я отшатнулась. Его лицо напоминало восковую маску, желчного цвета кожа, посиневшие губы, слезы, сбегающие из глаз, словно струйки яда, выжигающего себе путь сквозь живую материю. Его глаза – два черных провала – смотрели жестко, безжалостно проникая внутрь черепной коробки, стараясь каленым железом выжечь любую готовую к рождению мысль. Чуть раньше, чем он открыл рот, я почувствовала, что он вот-вот заговорит, и лучше бы мне никогда не слышать ни того, что он собирается сказать, ни голоса, которым он это произносит. «Сделай одолжение, Скалли. Пристрели меня прямо сейчас. Я знаю, пистолет у тебя всегда с собой. Я знаю, у тебя есть патроны». Мне полагалось испытывать сочувствие к Доггетту, но жалости в пустой скорлупе, по инерции носившей имя Даны Скалли, не осталось ни капли. В мои намерения не входило его щадить, даже если бы я была в состоянии это сделать. «Почему ты это сделал, Джон?» Его лицо исказилось судорогой. «Ты… как ты можешь… ты должна понять…» Да, я должна была его понять. У меня, единственной из всех ныне живущих, было право выдать ему индульгенцию, была возможность принять его поступок без лишних вопросов, подставить ему плечо. Помочь перекинуть мостик в вечность. Мне полагалось шагнуть с ним вместе на одну чашу весов, стремительно опускавшуюся вниз в желанную пропасть забвения. А я не шагнула. В его глазах я отчетливо увидела крушение последнего бастиона надежды, последней точки опоры. Из единственного союзника я превратилась в одну из них – тех, остальных, кто ничего не знал и был блажен в своем неведении. В нем мало было человеческого в тот момент, он смотрел на меня преданными глазами собаки, которой хозяин перерезал горло вместо того, чтобы приласкать. Неверие и неприятие. «Я не мог… так… больше… - он был глух к моему непониманию. – Она должна… должна была умереть…» «Она давно умерла, Джон», - холодно произнесла я, глядя на него без тени снисхождения. «Нет, это я… я ее убил…» «Джон, ты убил существо, которое уже не было человеком. Моника Рейес не пережила Колонизации, не пережила Дня Х!» «Неправда!» «Ты знаешь, что это правда. Ты никогда не должен был воспринимать это… создание как что-то, имеющее к ней отношение. Это было лишь оскорблением ее памяти…» «Я не желаю слушать эту чушь, Скалли! – он развернулся ко мне всем телом и сильно сжал мне плечо своей единственной рукой. – Ты населила землю фантомами вместо живых людей, потому что тебе так легче! Но люди не желают умирать только потому, что тебе так спокойней! И мы не стадо бродячих мертвецов или зомби, или кем ты там нас считаешь!» «Я не считаю, что все мы умерли, Джон! – я повысила голос почти против воли. – Ты жив, Скиннер жив, все эти люди… Они выбрали жизнь сами! Но не Моника, пойми, она не…» «Она не умерла, Скалли! – он вцепился мне в плечо и буквально навис надо мной. – До тех пор, пока я…» «Ты утопил лодку, в которой не было гребца, Джон! Ты сделал свой выбор, а Моника – свой сто лет назад! Ты не…» «Заткнись! Что ты знаешь о жизни, ты? Ты просто…» «Ты сошел с ума, Джон! Ты тронулся рассудком!..» «Заткнись!» «Тебе нужна помощь…» Я не сумела окончить фразу, потому что в этот момент он бросился на меня, навалившись всей массой и сжав мертвой хваткой мое горло. Я видела над собой близко-близко его глаза, растекшиеся по всей радужке зрачки – следствие болевого шока. Рефлекторно я начала сопротивляться, но вдруг перестала. Почему бы просто не позволить ему доделать его работу? И мне не придется больше… «Отпустите ее, агент Доггетт!» Голос пришел из ниоткуда. Высокий командный голос, привыкший отдавать безапелляционные приказы. На секунду мне показалось, что сам заместитель директора Керш встал из могилы, чтобы призвать Доггетта к порядку. Но это был Скиннер. Он нашел единственный верный тон, единственный способ пробиться сквозь буфер боли и отчаяния, окруживший сознание Джона. Мы словно сделали кувырок назад во времени, и человек, наставивший на нас оружие, не имел понятия ни о пришельцах, ни о Колонизации, ни о чем вообще, кроме своих обязанностей, утвержденных руководством и обозначенных в уставе. Время повернуло вспять, и его поток захлестнул нас, подхватил, закружил, очищая человеческую сущность от всего наносного и пришлого, избавляя нас от чужеродных, имплантированных в наше сознание схем эмоций и лишней памяти. Прежний Джон Доггетт неожиданно воскрес, в одно мгновение овладев искалеченной душой своего последователя, не успевшего даже приготовиться к сопротивлению. Пальцы на моем горле разжались, и я жадно втянула в себя воздух, не в состоянии помешать собственному организму. Кислород наполнил легкие, радостно забилось сердце, а взгляд прояснился. Время вернулось на свое место. Доггетт, отпустив меня, бессильно опустился на траву рядом. Он растеряно озирался, словно только сейчас осознав, где он находится и что происходит. Скиннер медленно опустил пистолет, не сводя с Джона цепкого взгляда. «Дана, ты в порядке?» Пришлось тоже сесть и подтвердить, что я не пострадала. Доггетт вдруг всхлипнул и через мгновение заплакал навзрыд, горько и безутешно, как ребенок. Скиннер выглядел взволнованным, но я успокоила его взглядом. Джон прошел ритуал очищения до конца. Теперь с ним все будет в порядке. Нарушив негласно установленную мной традицию, Скиннер вышел проводить нас с Джонни в путь. Уезжали мы на рассвете. На этот раз обошлось без просьб остаться, уверений и признаний. То ли Уолтер уверовал в мое возвращение, то ли понял, что уговаривать меня бесполезно. Прощались молча. Поглядев ему в глаза, я кивнула и забралась в телегу. Скиннер пожал руку Джонни и отступил от дороги. Кажется, мальчик хотел что-то сказать, но в последний момент передумал или не нашел слов. Лошадь, изрядно откормленная и слегка заскучавшая, бодро двинулась вперед. Я не оглядывалась, а Скиннер, я знала, не сверлил нам спину взглядом. Расстались. Джонни выглядел заметно веселее по мере того, как мы удалялись от Возрожденной Надежды. Пока мы жили в поселке придирчиво оценивающие взгляды Скиннера и Доггетта не давали ему покоя, а настойчивое внимание девушек держало в неизменном напряжении. Теперь же он воспрянул духом и вновь с жаром накинулся на изучение медицины. Мы ехали на юг. Минувший год выжег во мне остатки воли и желаний, и мы ехали на юг, потому что туда вела дорога. Старая дорога из желтого кирпича, привет из детской сказки. Большую часть дня я проводила в полузабытьи, разговаривая, управляя повозкой, оказывая помощь, принимая пищу – без сколько-нибудь значительного участия сознания. Чувство реальности возвращалось в час заката, после того, как мы устраивались на ночлег. Не знаю сколько часов в общей сложности я провела, глядя в тлеющие угли костра или на звездное небо. Джонни знал, что в эти минуты меня лучше не трогать. Наверно, это выглядело так, будто я впадаю в транс, сплю с открытыми глазами, чтобы проснуться утром как ни в чем не бывало. Все было совсем наоборот, но Джонни, к счастью, этого не понимал. Через три месяца – Джонни вел календарь – мы достигли Мексики, страны, в которой я в моей прошлой жизни так и не удосужилась побывать. Сейчас она мало чем отличалась от того, что мы оставили за плечами, разве что здесь было жарко, пыльно, и немногочисленное население говорило по-испански. Джонни быстро учился языку, и даже я умудрилась пополнить свой лексикон. К южной границе Мексики мы подъехали на исходе лета, впервые в новой эре попав в водоворот людей. Городок Санта-Лурдес в свое время был, должно быть, достопримечательностью для туристов, обыкновенным музеем старинной архитектуры. Ныне он превратился в перевалочный пункт двух континентов. Количество людей поражало, равно как и смешение культур, языков и национальностей. Здесь шла бойкая торговля (разумеется, бартерная), здесь с каждого угла слышалась музыка и – самое невероятное – смех. Городок напоминал гигантский чан, в котором давят виноград, чтобы приготовить вино, - его пары опьяняли и кружили голову. Мы разбили лагерь неподалеку от окраины, решив до времени не соваться внутрь. Мы оба чувствовали себя не готовыми к столь резкой смене тишины и уныния на фейерверк эмоций и звуков. Люди потянулись к нам вереницей, так что работы хватало. Очень скоро мы с Джонни обнаружили, что говорим не на английском, но на какой-то причудливой пряной смеси слов и созвучий, которую ни один из нас не был в состоянии понять или повторить в «трезвом» состоянии. Тем не менее, мы прекрасно понимали окружающих, а они нас. Через неделю мы отважились на короткую вылазку в город и еле унесли ноги от обилия впечатлений и образов. Непривычная, взрывающая сознание обстановка заставила отступить поселившуюся во мне летаргию. Я чувствовала ее, испуганно сжавшуюся в уголке подсознания, затаившуюся до лучших времен. Воздух города не был родным воздухом, и, наверно, поэтому я вдруг почувствовала, что дышу, - впервые с самого Дня Х я сделала вдох полной грудью. Мне хватило бы и этого, но Джонни совершенно потерял голову от царившей вокруг активности. Как-то под вечер, когда солнце уже клонилось к горизонту, он вошел в палатку, где я отдыхала, и гордо протянул мне пестрое хлопчатобумажное платье. Я недоуменно на него посмотрела, и он, смутившись, отвел глаза. «Сегодня в городе праздник. Я подумал, что тебе нужно одеться… понаряднее». Потребовалось время, чтобы я наконец поняла, чего он от меня хочет. Праздник. У меня не было желания покидать пределы нашего скромного лагеря. Здесь я могла поддерживать хотя бы иллюзию барьера между собой и безумным миром по ту сторону. Надеть это аляповатое платье и войти в город означало, утратив остатки самоидентификации, стать частью постмодернистского броуновского движения – единственной формы глобализации, которая нам осталась. Мне не хотелось, но Джонни смотрел на меня с такой надеждой, что я подчинилась, почти поневоле. Яркий хлопок и пластиковые бусы, подаренные мне восьмилетней пациенткой, вероятно, внесли какое-то изменение в мою внешность. Внутренне усмехнувшись, я вдруг поймала себя на мысли, что не заглядывала в зеркало лет сто пятьдесят. Любопытство вспыхнуло и тут же погасло, как брошенная спичка. Не все ли равно? Мы вошли в городок, преобразившийся до неузнаваемости, что день назад показалось бы мне невозможным. Повсюду горели цветные фонарики, над улицами были развешены гирлянды из живых цветов, всеобщее оживление волнами захлестывало вновь прибывших. Мы двигались в неизвестном направлении в калейдоскопическом смешении улиц, запахов, лиц и цветов, мы очень быстро потерялись в многоголосице языков и голосов, музыкальных нот и криков животных, в звоне посуды и восторженных возгласах. Возле каждого дома стояли прилавки, и гостеприимные хозяева зазывали попробовать ароматного жареного мяса, кукурузных лепешек, сладостей. Дети стайками носились вокруг, сбивая прохожих с ног. За столом в тенистом дворике смуглый мужчина, похожий на пирата из комиксов, приглашал всех сыграть в наперсток, и вокруг стола уже успела собраться толпа участников и болельщиков. Время от времени толпа дружно вскрикивала, а пират по-разбойничьи улыбался, сверкая золотым зубом. Неподалеку играли в кости (проигравший выполнял желание победителя), а на площади возле ратуши мы увидели мини-турнир по шахматам. Джонни восхищенно присвистнул и остановился посмотреть, а меня толпа повлекла дальше в сторону, где оркестр, больше всего напоминавший лоскутное одеяло, выстреливал в ночь зажигательными пряными мелодиями. В центре импровизированной площадки женщина лет сорока отстукивала каблуками неповторимый ритм фламенко, а зрители поддерживали ее не менее ритмичными хлопками и возгласами. Танец поглотил ее полностью: танцевали руки, взлетая и падая в классически естественных позициях, танцевали волосы, черным вихрем окутывая плечи, танцевали глаза, тусклые, помертвевшие, но по-прежнему выразительные и опасные, словно глаза безумной кошки. Кастаньеты и гитара набатом звенели в ушах, гипнотизируя и порабощая. Алчность в каждом взгляде. Я свернула в узкую кривую улочку, вымощенную булыжником тропинку между пузатыми каменными домами. Свечи на подоконниках, приглушенные голоса, вскрики. Две пожилые женщины громко переговаривались через улицу, одна из них без конца поправляла сбившийся парик, другая крошила голубям хлеб. В соседнем доме пара занималась любовью на подоконнике второго этажа, сосредоточенно, не обращая ни на что внимания. Едва я их заметила, как дорогу мне заслонил невысокий плотный мужчина, сжимавший в зубах алую розу. Он протянул мне цветок, и я машинально приняла его, размышляя. Почему бы и нет, в конце концов? Может, это каким-то образом меня оживит. Незнакомец мне достался молчаливый, но негрубый и весьма находчивый. Пяти минут, однако, мне хватило, чтобы призрак любопытства растаял, и стало скучно. Я вежливо, но твердо отстранила его и покачала головой. Разочарованным он не выглядел. Все так же молча забрал у меня розу, которую я все еще сжимала в руке, и ушел в направлении площади. Поправив одежду, я продолжила свой путь. Мимо меня пронеслась стайка детей, сжимавших в руках ярко разукрашенные маракасы и азартно ими гремевших. Возле старого фонтана пожилая индианка гадала на картах. Девушки с тревожно-возбужденным выражением на лицах, обступили ее, предлагая разнообразные вещицы в качестве вознаграждения. Женщина придирчиво всматривалась в дарительниц и далеко не всякий раз соглашалась. Почувствовав странный импульс, я шагнула к ней и протянула свои пластмассовые бусы. Не взглянув на них, гадалка отпрянула от меня и зашипела, делая в воздухе причудливые знаки рукой. Пожав плечами, я отступила от испуганно смотревших на меня девушек и зашагала дальше. Экстрасенсы, медиумы и предсказатели никогда не вызывали у меня доверия, и они, судя по всему, по сию пору отвечали мне взаимностью. То-то было бы веселья… раньше. Ноги, произвольно выбиравшие путь, вынесли меня на тихую темную улочку. Шум праздника за спиной отдавался здесь приглушенным гулом, и людей было заметно меньше. Возле маленького ярко освещенного кафе, тем не менее, собралась небольшая толпа. Я подошла ближе – узнать, что привлекло их внимание. На ступеньках кафе, больше всего напоминавшего средневековую таверну, под покосившейся выцветшей деревянной вывеской «Mon Ami» сидела девушка, будто сошедшая с полотна эпохи Ренессанса: белая свободная одежда, длинные светлые волосы, волнами ниспадавшие на плечи, гитара в тонких руках. Она нежно перебирала струны и мурлыкала в такт мелодии. Внимательно и печально слушали ее люди. Я невольно остановилась, пораженная неожиданной естественностью этой сцены. Праздник, словно тяжелый приторный сон, отступал, неохотно сдавая позиции. Вскинув голову, девушка обвела взглядом людей и запела – струящимся чистым голосом. Я вспоминала о тебе Нас разлучить пришлось судьбе… Все стало серым и пустым Вчерашней жизни горький дым… Зачарованная, я стояла, не сводя с нее глаз, и разум еще пытался нашептывать мне, что слова банальны, а музыка безыскусна и проста, но медленная тягучая мелодия взывала к существу, обитавшему раньше в моем теле, и существо это силилось воскреснуть, вопреки всем законам божеским и человеческим… Ты смотришь мне в глаза и я на небесах и я тебя все еще помню… Мне снился сон, в нем ты и я Фонтаном звезд кипит заря Коснусь руки – и вновь одна Но память о тебе жива Я вспоминала звездную ночь в пустыне. Холод, космический холод и пронизывающее до костей одиночество. Я знала, что он где-то здесь, рядом, я чувствовала, как ему больно, как невыносимо больно, и отчаяние охватило меня, потому что я искала - искала-искала-искала – и не могла найти. Не могла спасти. Его имя не сходило с моих губ, а где-то, я чувствовала, он заходится криком, повторяя мое… Ты смотришь мне в глаза и я на небесах и я тебя все еще помню Дни, когда мы были вместе счастьем была вечность и я тебя все еще помню… И я помнила другую звездную ночь. Тепло объятья, живое тепло дерева под пальцами, тепло сентябрьской ночи, и маленькие кожаные мячи, с каждым ударом умножающие количество звезд на небе. Я так и не призналась ему, что в школе была капитаном бейсбольной команды. Какое это имело значение, если потом было тепло – огонь в камине, печеный зефир и «Марс атакует!»… Вспоминаешь ли порой Обо мне и жизни той? Улыбнись минувшим дням Памятью моею пьян Ты смотришь мне в глаза… Она пела спокойно, без следа эмоций, словно бездушный магнитофон, воспроизводящий запись. Она пела, и каждое слово ее было обо мне, и мне хотелось убить ее, чтобы прекратить мучение. Но если бы она вдруг замолчала, я бы умерла немедленно. …и я на небесах и я тебя все еще помню Дни, когда мы были вместе счастьем была вечность и я тебя все еще помню…* Неожиданно подняв голову, я встретилась взглядом с человеком, стоявшим напротив меня. Эти глаза… Мое сердце совершило немыслимый кульбит, в висках застучало. Я больше не слышала мелодии, я не слышала ни звука, кроме приглушенного шума крови в венах… Эти глаза, знакомые до мельчайшей искорки, родные и недосягаемые, смотрели прямо на меня, и мне было некогда разбираться, во что я верю и на что надеюсь. Я только до боли боялась пошевелиться, моргнуть и спугнуть наваждение. Кто-то из тех, кто стоял рядом со мной, на мгновение встал передо мной, и у меня вырвался стон – боль скрутила меня, заставляя корчиться в агонии. Человек отскочил, но было поздно: глаза – его – мои – глаза растворились в ночи, исчезли, словно их и не было… Их и не было. За всю мою новую жизнь я никогда не была так близка к окончательной, последней и настоящей смерти, как в этот миг. Никто не задавал мне вопросов. Меня напоили кофе, а на рассвете вывели из города к моей палатке. Я выглядела спокойной, но горе, на которое я уже мнила себя неспособной, выгрызало мне нутро неутомимо и настойчиво, словно экскаватор. Все это время я тешила себя величайшим самообманом, венцом больших и малых полуправд, заблуждений и самоубеждений. Я говорила себе, что должна жить, потому что я врач, потому что я нужна людям. Красиво оправленная ложь не заменит прогорклой истины. Я осталась в живых, потому что надежда, над которой я воздвигла помпезный надгробный памятник, не умерла, но продолжала жить, затаившись в самом темном уголке моего существа, чтобы терзать мою память и подменять реальность вымыслом. Малдер в своих самых фанатичных гипотезах не опускался до такого. Он никогда не врал себе. Я же… Я исколесила континент в погоне за миражом, за призраком, в которых я не верю. Во имя Господа, что я хотела найти? Могилу? Последнюю неоспоримую истину? Истина нашла меня сегодня. Я посмотрела в лицо призраку и убоялась его. Джонни застал меня сворачивающей лагерь. Он ничем не выказал удивления, но его улыбка заметно потускнела. Молча он помог мне собрать вещи и погрузить их в телегу, запряг лошадь. Мы поехали дальше на юг. Джонни ни о чем не спросил меня, и я внезапно поняла, что жалею об этом. Мне хотелось выговориться, хотелось, чтобы меня выслушали. Это неожиданное желание наполняло меня стремительно, как газ из баллона наполняет воздушные шары. И, устав бороться с неизбежным, я заговорила сама. Джонни посмотрел на меня изумленно и едва не выронил поводья из рук, но сумел промолчать, и я обрадовалась этому. Я рассказывала про свою жизнь и семью, про работу в ФБР, про то, как пришла в «Секретные материалы» и познакомилась с Малдером. Я говорила и говорила о нем, торопливо, сбивчиво, прыгая по годам и месяцам, перескакивая с одного на другое, воскрешая в словах наши взлеты и падения, нашу близость и отчужденность. Я пыталась объяснить, что мы понимали друг друга без слов, при этом по-настоящему так никогда друг друга и не поняв. Я рассказывала о наших друзьях и врагах, и о тех, кому не посчастливилось стоять у нас на пути. Я вспоминала мельчайшие подробности, которые вдруг казались мне исполненными необычайной важности. Я воспроизводила целые диалоги, навечно вписанные в мою память, наши споры и перебранки, и все те прекрасные слова, которые по капле, раз в тысячелетие мы говорили друг другу. Солнце поднялось в зенит и спустилось к горизонту, а потом и за горизонт, но мы не останавливались, а Джонни слушал меня, не перебивая. Он слушал напряженно, внимательно, и я могла только догадываться, какой ураган бушует у него в голове, но он не задавал вопросов, не комментировал мои слова, не пытался меня остановить. Я бы пожалела его, но у меня не было на это времени – слишком сильна была необходимость выплеснуть все, что накопилось внутри. Я не смогла бы замолчать, даже если бы на меня упал кусок неба. Мы открываем дверь во Вселенную, но мы не знаем, что ждет нас за этой дверью. Малдер сказал мне это миллион лет назад, и я тогда подумала, что он иногда склонен к напыщенным банальным фразам. Пусть так, но от этого истина не утрачивала своей силы. Он всю жизнь пытался заглянуть в эту дверь, понимая при этом, что ее необходимо закрыть навсегда и навесить на нее замок, если мы хотим выжить. Я так хорошо его знала, но не могла бы сказать, что он сделал бы, если бы в один прекрасный день правда была предана огласке, его правота подтверждена, и ему поверили. Я спросила его как-то, что еще он надеется найти после всего, что он видел и пережил. Свою сестру, ответил он тогда. А потом он нашел ее, и я верила какое-то время, что мы окончим свои дни вместе, прослыв самой чудаковатой парочкой за всю историю ФБР. Выйдя на пенсию (должны же были его когда-нибудь выгнать), Малдер стал бы вредным стариком, каким был Артур Дэйлс, и коротал бы дни, смотря бейсбол, в перерывах между общением с выжившими из ума уфологами. Я исполняла бы роль скептически настроенной соседки, не дававшей ему спуску, но придирчиво и строго следившей за тем, чтобы он вовремя принимал свои лекарства. Это была бы прекрасная старость. На рассвете я почувствовала изнеможение. Я охрипла, начала повторяться, пытаясь ухватить путающиеся мысли. Джонни остановил телегу как раз вовремя, чтобы подхватить меня, начавшую падать в раскрытый зев беспамятства. Он перенес меня назад, заботливо укутав, глаза мои закрылись, и на долгое время я утратила связь с внешним миром. Когда я проснулась, вернее, пришла в себя, солнце стояло высоко, а Джонни беспечно насвистывал в такт мерному скрипу колес. Увидев меня, он улыбнулся, несмело, но приветливо, и спросил, хочу ли я, чтобы он остановил телегу. Да, я чувствовала в этом явную необходимость. День показался мне неожиданно ярким, а земля слишком твердой. Растительность – слишком зеленой, вода – слишком свежей. Я вернулась, чувствуя, что голова кружится, словно я надышалась винными парами. Джонни протянул мне пузатую флягу, и я машинально сделала большой глоток. Молоко, приятно прохладное молоко, как хорошо… Мы продолжили движение, и очень скоро я почувствовала, что глаза слипаются, а по телу разлилась приятная истома. Мне необходим был отдых, и я снова уснула, мгновенно, едва успев перебраться назад. Я очнулась второй раз, и ритуал повторился. Остановка, попытка осознать окружающую действительность, молоко из фляги. Когда мы остановились в третий раз, я помедлила, прежде чем сделать глоток. Джонни, взглянув мне в глаза, улыбнулся. «На этот раз без снотворного». Кивнув, я припала к фляге и долго с наслаждением пила. Вода, чистая, родниковая вода, дарящая энергию пробуждения. Кто бы мог подумать, что у меня такой талантливый и проницательный ученик. Самодовольный, конечно, не без этого, но несомненно, талантливый. А я едва ли принимала его всерьез и помыкала им всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ах, Джонни, Джонни… Кто послал тебя мне в помощь, ведомый и друг? Джонни полностью взял на себя ответственность за нашу судьбу, я не принимала ни малейшего участия в выборе пути. Мы ехали вдоль побережья. Я отмалчивалась, чувствуя, что любое произнесенное слово станет последним чрезмерным усилием. Вместо разговоров я изучала мир вокруг, тот самый мир, который я не воспринимала как нечто реально существующее столько долгих месяцев. Он казался мне чрезмерным. Чрезмерно бурным, чрезмерно шумным, чрезмерно естественным. Но эта естественность словно отстояла отдельно от меня, как параллельная вселенная. Мы ехали вдоль побережья, и я открывала для себя невыносимо яркий, немыслимо животворный мир тропической природы. Я словно вновь стала ребенком, для которого все вокруг – новое, и все нужно попробовать, потрогать, ощутить. Я улыбалась изумленной улыбкой невольного первооткрывателя, и Джонни слегка шалел от этой улыбки – он никогда ее раньше не видел. Возможно, про себя он начинал тревожиться за мое душевное здоровье, но этот поезд давно ушел, и запрыгнуть на подножку не удалось бы никому. Джунгли и океан надолго разлучили нас с представителями рода человеческого. Через неделю, однако, мы выехали к крошечной рыбацкой деревушке, старое название которой как-то изгладилось из памяти, а новое не придумали – незачем. Здесь жили три семьи, отказавшиеся покидать родные места. Глава четвертого клана ушел, жаждя обеспечить безопасность своему семейству. Больше об этих людях не слышали, и это здесь было единственным свидетельством того, что День Х наступил на этой самой планете. Мы с Джонни, подъезжая с севера, видели несколько ужасающих пепелищ – следов гибельной, нечеловеческой войны, холодной точности, от которой нет спасенья. Джунгли, верные своей природе, принялись с азартом атаковать не званных гостей, но за год, прошедший с момента Нападения, продвинулись едва ли на метр. Впрочем, можно было вполне довериться их упорству. Мы встали лагерем неподалеку от деревушки. Особой надобности в наших услугах эти люди не испытывали, но Джонни, наслаждаясь ролью моего лечащего врача, постановил, что нам нужен отдых. Он пропадал целыми днями вместе с гостеприимными рыбаками, которые взялись обучать его своему делу. А я просто сидела на берегу и смотрела на океан от рассвета до заката. Смотрела бы, вероятно, и ночью, но под вечер возвращался Джонни и гнал меня спать. Его безапелляционному тону мог бы позавидовать любой зав отделением. Впрочем, из каждого правила бывают исключения. Солнце без всплеска погрузилось в алые воды на горизонте, и бархатная душистая ночь в одно мгновенье разлилась под небесным куполом, а Джонни все не было. Я не волновалась за него. Необъяснимо, но откуда-то я точно знала: с ним все в порядке. Воспользовавшись его отсутствием, я безнаказанно сидела на остывающем песке, пытаясь угадать, где заканчивалось небо и начинался океан. Задача была не из легких, ибо звезды были повсюду, сколько хватало глаз. Откуда-то из переливчато-темного полотна ночи на периферии зрения соткался человек. Я видела уголком глаза его невысокую плотную фигуру, ветер шевелил выбеленные временем волосы. Песок скрадывал звук шагов, но я знала, что человек этот неспешно приближается ко мне, и сидела неподвижно, зная, что он меня не минует. Он остановился возле меня, и я попыталась всей кожей втянуть в себя эту звездную ночь, теплую, как прощание с другом. «Ты заждалась, Дана». Медленно, я подняла голову и встретилась глазами со спокойным, чуть ироничным взглядом Альберта Хостина. Моему оцепенению был нанесен сокрушительный удар, я уставилась на него в удивлении. «Альберт… Но как же так?.. Ведь вы умерли…» «Забавно, - произнес он, опускаясь на песок рядом со мной, - ты не первая, кто напоминает мне об этом». «Я…» «Неоригинальна, да. Что ж… Я умер, это правда. Но это не помешало мне прийти к тебе». Я не знала, что сказать. Я силилась изумиться, но вместо этого в голову настойчиво лезла совсем другая мысль. С Альбертом Хостином было связано одно из самых парадоксальных воспоминаний моей жизни. Он пришел ко мне, когда Малдер умирал от избытка чужеродной жизни, а я отчаялась найти его и помочь. Альберт пришел помолиться вместе со мной. А потом я узнала, что он умер за десять дней до того, как нежданно-негаданно появился в моей квартире. Я не могла в это поверить тогда. Я держала его за руку, и рука эта была теплой. Вот как сейчас. «Зачем вы пришли, Альберт?» Он похлопал меня по руке и вздохнул. Или мне послышалось. «Я пришел, чтобы помочь тебе, Дана. Ты слишком долго стоишь на пороге, боясь переступить его». «Я не понимаю… Вы пришли, чтобы помолиться со мной? Или… вы знаете, где Малдер…» «Дана, Дана. Вспомни, что я сказал тебе однажды. Мы можем держать в руках лишь один мир, но их гораздо больше. Прислушайся к себе, Скаут. Где ты сейчас?» Я нахмурилась, по-прежнему не понимая. Альберт Хостин слишком часто ставил меня в тупик при жизни, ничего удивительного, что его посмертные загадки оказались мне не по зубам. «Я здесь, Альберт». Он покачал головой, улыбаясь снисходительно и по-прежнему настойчиво глядя мне в глаза. «Нет, женщина из ФБР, никакого «здесь» не существует. Пока нет. Ты прячешься от этого «здесь», ты застряла между небом и землей, - он усмехнулся, скользнув недоумевающим взглядом по звездному куполу над головой. – Люди и их навязчивые идеи… да. Я помогу тебе увидеть «здесь», Дана». Мысль о том, что он сошел с ума, приходила мне в голову и раньше. В данных обстоятельствах, однако, она утрачивала смысл. Альберт Хостин всегда был с причудами. Имея в своем распоряжении целый виварий чудаков и личностей «с приветом», извращенцев и сумасшедших, я все же склонялась к выводу, что «причуды» Альберта перевешивали всю мою коллекцию. Впрочем, что возьмешь с мертвого человека? С мертвого, с которым я тем не менее разговариваю. Здравствуй, помешательство. «Закрой глаза». Не знаю, что заставляет меня повиноваться этому спокойному и сухому, но в то же время удивительно теплому голосу. Наверное, силы мои иссякли окончательно, иначе откуда эта немыслимая усталость? Я закрываю глаза, мечтая погрузиться в блаженство беспамятства и ни о чем не думать. Но голос Альберта следует за мной в темноте, не давая забыться. «Ты чувствуешь боль, женщина. У тебя перебиты ноги, а кожа изрезана стеклом. Чувствуешь, как саднят ранки от осколков?» Я не успела удивиться, ибо действительно ощутила еще не боль, нет, но ее предвестницу, несомненно. Я не могла этого объяснить, чувство тревоги охватило меня. Казалось, я не испытывала такого страха никогда в жизни. Мне хотелось открыть глаза, избавиться от пугающего наваждения, увидеть звезды, услышать плеск волн… Я не могла этого сделать. Мое тело перестало повиноваться мне. Я мыслила, да, но существовала ли? Мое сознание трепыхалось внутри темной неподатливой клетки, бывшей некогда моим телом. Что это? Я умерла? Мне было страшно, невыносимо страшно. Выпустите меня! Кто я? Кем я стала? Если это смерть, то почему я не перестала мыслить? Я осознавала себя, но в то же время не осознавала. Паника выскочила из засады и атаковала, и то, что было мной в это мгновение, напрягло все силы, сопротивляясь ей. Я ужаснулась перспективе потерять сознание, потому что оно было единственным, что у меня осталось. Как хотелось ощутить чье-нибудь присутствие, услышать рядом голос, пусть даже голос выжившего из ума индейца… Помогите… «Помоги, Альберт…» И голос пришел. «Ты чувствуешь боль, женщина. Очень сильную боль». Мое тело приняло меня. Оно рванулось мне навстречу с такой скоростью, что я почувствовала физический удар. Боль, о которой говорил Альберт, привела меня в чувство. Медленно, так медленно я открыла глаза, стараясь не обращать внимания на дикую резь. Я лежала на холодном полу посреди разгромленной комнаты. Бледно-зеленые стены, разбитый телевизор под потолком… Больница. Я в больнице. Джорджтаун Мемориал. О Господи. Но как же это возможно? Я попыталась внушить себе, что по-прежнему сижу на далеком берегу океана, но воспоминания пугливыми комками разбегались, предавая меня, оставляя один на один с мучительной болью. Я скосила глаза вниз и увидела, что огромный металлический шкаф, стоявший прежде возле стены, упал поперек моей кровати, вдавив ее своим весом в пол. И перебил мне ноги. Должно быть, я пролежала так немало времени, потому что ног я уже не чувствовала совершенно. Тупая боль, поднимавшаяся снизу, причиняла мне гораздо меньше страданий, чем многочисленные порезы. Да, я помню. День Х. Внезапная атака. Мы не были готовы. CNN еще успело передать в эфир предупреждение, но они опоздали. Не знаю, какое оружие они применяли. Помню, как содрогнулся пол, мебель начала танцевать по комнате. Потом ударная волна, удушливая, жаркая, сжигающая человеческие ткани. Стекло раскаленными каплями брызнуло во все стороны с жалобным звоном. Этот звон был последним, что я запомнила. Шкаф перебил мне ноги, и от болевого шока я потеряла сознание. Боже мой. Боже мой. Мой мир разлетелся на кусочки, и я ощутила глухую тоску создателя, лишившегося своего творения. Как же так… Уход пришельцев, людские поселения, Возрожденная Надежда, Скиннер и Доггетт… Все было сном, иллюзией, достаточно правдоподобной в своей жестокости, чтобы я могла в нее верить, и в то же время такой сладостной по сравнению с реальностью. И творцом этой иллюзии была я сама. Как тихо. Я помню крики и ужасный шум, грохот, доносившийся с улицы. Я прислушалась, но то ли слух подводил меня, то ли звуки перестали существовать. Я попробовала пошевелить руками, и хотя боль волнами побежала по телу, я все же заставила себя поднять руку к лицу и с болезненным наслаждением ощупала его. Кровь из многочисленных порезов мешала мне видеть, и я попыталась стереть ее. Рука соскользнула к виску, и пальцы окунулись в холодный ручеек, вытекавший из уха. Барабанные перепонки перебиты, отметила я с полным безразличием. Вот почему так тихо. Рука моя бессильно упала вдоль тела, а я исхитрилась повернуть голову и осмотреться. Стена палаты была полностью разрушена, передо мной был больничный коридор. Вернее, то, что раньше им было. Повсюду были люди. Поправка. То, что прежде было людьми. Внезапная смерть со вкусом оформила мизансцену: ни позы, ни месторасположение тел не повторялись, и каждая фигура была по-своему прихотлива и оригинальна. Медсестра, так и не выпустившая из рук металлический стержень капельницы. Роженица, которую на каталке перевозили в другую палату, два санитара и врач возле нее. Два старика, распластанные по стене, словно шкуры диких зверей, тянущиеся друг к другу в трогательном единении после смерти. Где сейчас все эти люди? В том ужасном месте, где я побывала? Неужели после смерти мы не сможем стать частицей небытия, а будем навечно заточены в невообразимой темнице для мыслей? Наверное, я вскрикнула, хотя, конечно, не могла этого услышать. Я увидела молоденького интерна, чье тело застыло возле стены в странно расслабленной позе, словно он присел отдохнуть. У него не было правой руки, ее отнесло к другой стене, и обрубок угрюмо уставился в потолок. Раскрытые глаза были глазами Джонни, смотревшими на меня с той стороны вечности. О Боже, Боже, Боже мой... Ну почему? «Теперь ты здесь, женщина из ФБР». Альберт сидел на полу возле меня, там, где только что валялся обгорелый кусок пластикового столика. Я слышала его голос так же ясно, как собственные мысли. Нет, пожалуй, яснее. «Я все придумала, Альберт?» Я не произнесла этого вслух, у меня бы не вышло. Но я знала, он меня слышит. «Ты пыталась создать свой мир и убежать в него, - спокойно ответил он и неожиданно улыбнулся. – Он был не так уж плох, Дана. Чуточку идеалистичен, да, но совсем не плох. Я хотел бы в нем пожить». Я ждала шока, но шока не было. Это действительно правда. Я знала, чувствовала с самого начала. Недаром, несмотря на многочисленные ужимки сознания, я так и не смогла ни оживить мой тусклый мирок, ни прижиться в нем. «Альберт, - жалобно позвала я тоном шестилетней девочки, которая просит отца не выходить из комнаты, подержать ее за руку, пока она не уснет. – Альберт… где Малдер?» «Я не могу сказать тебе, женщина из ФБР, потому что не знаю. У него своя судьба, у меня своя. И у тебя своя. Ты помнишь Колонизацию, День Х, как вы его называете?» «Да». «С того дня прошел почти месяц, Дана. Ты целый месяц грезила, отказываясь умирать. Знаешь, почему?» «Да. Я не хотела уходить без него». Альберт покачал головой с легкой укоризной. «Ты не в ответе за него. Прислушайся». «Я ничего не слышу, Альберт. Мои уши…» «Нет, Дана, не так. Прислушайся сердцем». Я прислушалась. Сначала к звуку собственного сердца, который я угадывала больше, чем слышала. Потом сквозь него к миру вокруг. Не знаю, что сделало меня восприимчивой к магии причуд Альберта Хостина: то, что я была при смерти, или то, что жила до сих пор, вопреки законам природы, уже месяц не подпуская к себе неизбежное. Я была медицинским феноменом в мире, где не осталось ни медицины, ни людей, способных изумиться чуду. Было тихо и холодно. Я открылась миру и впустила холод к себе, словно форточку распахнула, выхолаживая натопленную комнату в морозный день. «Я осталась одна, Альберт?» Он кивнул, наблюдая за мной. «Я боюсь уходить». «Я буду с тобой, женщина из ФБР. Ты последняя на планете. Я должен увести тебя, теперь ты готова уйти». Я чувствовала, что он прав, жизнь, столь неестественным образом задержавшаяся во мне, стремительно покидала меня с той минуты, как ко мне возвратилось сознание. Отчаяние захлестнуло меня, когда я поняла, что моим поискам пришел конец, самый безнадежный из всех. Альберт вздохнул, прикрыв на мгновение глаза. «Как ты упряма, женщина». «Мне нужно знать, Альберт». «Ищи. Ты еще не покинула один мир и уже заглянула в другой. Ты можешь видеть оба. Ищи, женщина. Времени у тебя немного». Я закрыла глаза и стала искать. Я не могу описать, как проходили мои поиски, не существует слов для этого. Только тот понял бы меня, кто стоит на краю, но ему не нужно было бы объяснять. Улыбка Будды. Полет над вечностью. Трехцветная зубная паста. Ниндзя-Фрохики. Маятник на площади. Воздушный змей. Женщина с метлой. Полосатая рыба. Отец, машущий мне рукой. Перевернутое сомбреро. Санта-Клаус на пляже. Опра Уинфри. Набирающий скорость «Тамагавк». Скиннер, обнимающий Кэйтлин и Магду. Желтая подводная лодка. Копна сена. Литая решетка. Парусник у пристани. Пасхальный Кролик. Печеное яблоко. «Нам пора, Дана». Это безумие, но я все еще чувствую горячую влагу слез на щеках. «Я не нашла его, Альберт. Его нет…» «Нам пора, Дана. Закрой глаза». Я снова могу идти. Больница исчезла. Боль исчезла. Я смотрю вниз на свое тело. На нем ни следа от полученных повреждений. Повинуясь неясному импульсу, я прикасаюсь чуткими пальцами к основанию шеи. Микрочип все еще там, и это успокаивает меня. Теперь я могу осмотреться. Вокруг меня сумерки, скрадывающие очертания предметов, если только существуют еще предметы. Передо мной не то чтобы дорога, может быть, тропка. Я делаю шаг, другой, и привычным ритм движения захватывает меня. Мягкая пыль глотает звук каблуков, но я знаю, что они там, и улыбаюсь. Я шагаю бесцельно, не оглядываясь и не всматриваясь в горизонт. Альберта нет со мной рядом, но я чувствую его присутствие. Я знаю, это только моя дорога. Малдер, вспоминаю я вдруг, Малдер. В День Х, умирая от ран, вместе со всем человечеством, я заглянула за грань и не нашла его. Я бросилась назад, силясь вобрать в себя весь исковерканный мир, и не нашла его. И в жизни, и в смерти я не могла смириться с этим. Дерзкий и неудачливый демиург, я создала аляповатое творение, в котором силилась ожить и оживить его. Но не преуспела. Я не смогла вдохнуть жизнь в химеру, лишь продлить агонию собственного существования. И теперь я шагала, зная, что не устану и не миную цели. Серебряные шпили и башни, Тир-на-Ногт, волшебный город, где сама Истина принимает гостей. Я шла вперед, чтобы обменять все хорошее и плохое в моей жизни на билет в один конец. Мне хотелось верить, что эта последняя надежда не напрасна, что мне укажут наконец верный путь. Лишь бы только мне хватило средств расплатиться за эту помощь, ибо жизнь моя была вовсе не такой светлой и чистой, какой ей полагалось быть. Но я не чувствовала сожаления, потому что с полотна, запечатлевшего мое полное противоречий существование, яркими звездами сверкали мгновения горя и радости, болезни и здравия, богатства и бедности, разделенные с моим неугомонным, мечтательным, стойким в своей вере другом. Я хотела верить, что он ждет меня в пункте назначения. Он увидит меня первым, прежде чем я его замечу, и я услышу голос из-за спины: «Отличный костюмчик, Скалли». Принимая во внимание количество воздушных замков, которые он понастроил за свою земную жизнь, без крыши над головой мы не останемся. Я с удовольствием скоротаю вечность, слушая его неостроумные шуточки. И мое путешествие наконец завершится. (*) В тексте используется примерный перевод песни “I Still Remember” группы Blackmore’s Night, написанной по мотивам старинной французской баллады “Mon Ami”.
|